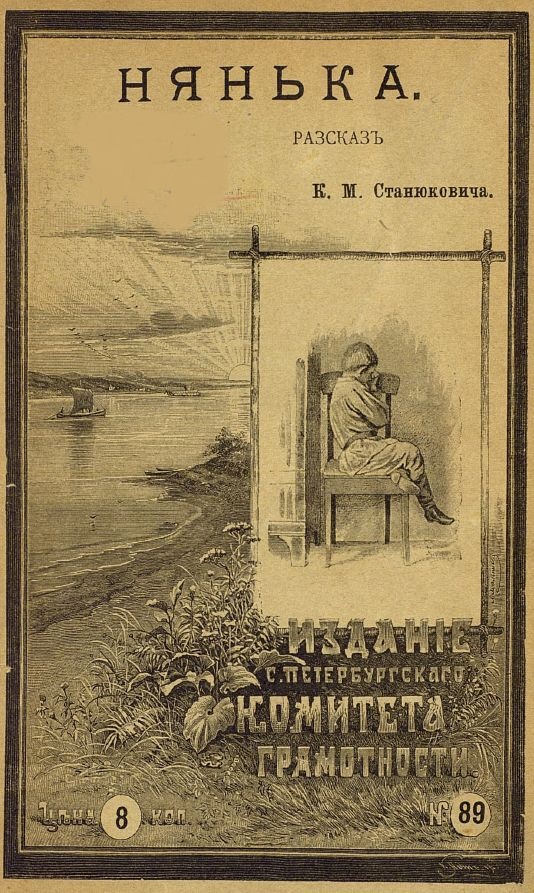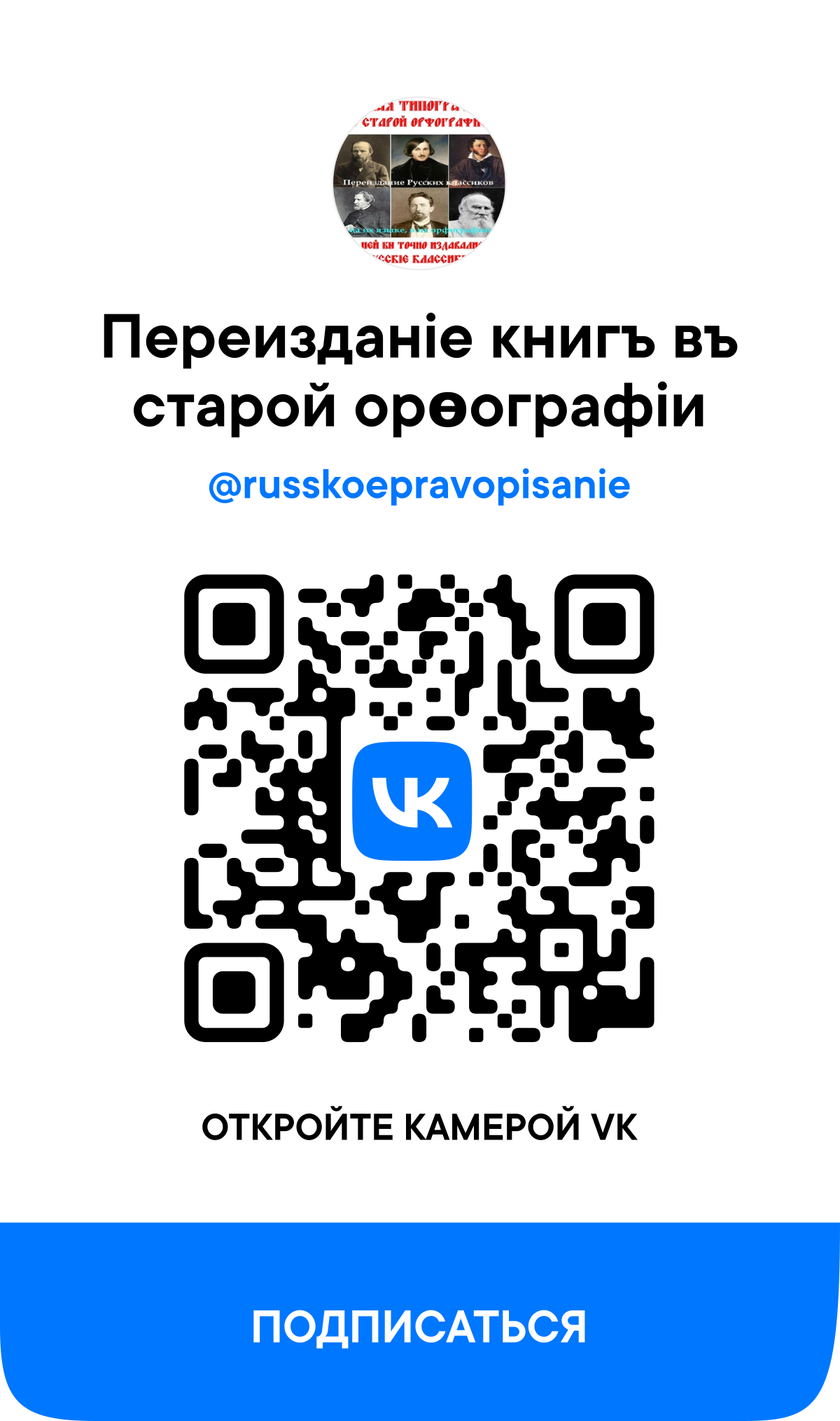НЯНЬКА.
РАЗСКАЗЪ
К. М. Станюковича.
Изданіе С.-Петербургскаго Комитета Грамотности, состоящего при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ.
Дозволено цензурою. СПб., 20 Ноября 1895 г.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія П. П. Сойкина. Стремянная, 12.
1895.
Нянька.
Посвящается Константину Константиновичу Станюковичу.
I.
Однажды вешнимъ утромъ, когда въ кронштадтскихъ гаваняхъ давно уже кипѣли работы по изготовленію судовъ къ лѣтнему плаванію, въ столовую небольшой квартиры капитана второго ранга Василія Михайловича Лузгина вошелъ деньщикъ, исполнявшiй обязанности лакея и повара. Звали его Иванъ Кокоринъ.
Обдергивая только-что надѣтый поверхъ форменной матросской рубахи засаленный черный сюртукъ, Иванъ доложилъ своимъ мягкимъ, вкрадчивымъ теноркомъ:
— Новый деньщикъ явился, барыня. Баринъ изъ экипажа прислали.
Барыня, молодая, видная блондинка съ большими сѣрыми глазами, сидѣла за самоваромъ, въ голубомъ капотѣ, въ маленькомъ чепцѣ на головѣ, прикрывавшемъ неубранные, завязанные въ узелъ, свѣтлорусые волосы, и пила кофе. Рядомъ съ ней, на высокомъ стульчикѣ, лѣниво отхлебывалъ молоко, болтая ногами, черноглазый мальчикъ лѣтъ семи или восьми въ красной рубашкѣ съ золотымъ позументомъ. Сзади стояла, держа грудного ребенка на рукахъ, молодая, худощавая, робкая дѣвушка, босая и въ затасканномъ ситцевомъ платьѣ. Ее всѣ звали Анюткой. Она была единственной крѣпостной Лузгиной, отданной ей въ числѣ приданаго еще подросткомъ.
— Ты, Иванъ, знаешь этого деньщика? — спросила барыня, поднимая голову.
— Не знаю, барыня.
— А какъ онъ на видъ?
— Какъ есть грубая матрозня! Безо всякаго обращенія, барыня! — отвѣчалъ Иванъ, презрительно выпячивая свои толстая, сочныя губы.
Самъ онъ вовсе не походилъ на матроса.
Полнотѣлый, гладкій и румяный, съ рыжеватыми намасленными волосами, съ веснущатымъ, гладко выбритымъ лицомъ человѣка лѣтъ тридцати пяти и съ маленькими, заплывшими глазками, онъ и наружнымъ своимъ видомъ, и нѣкоторою развязностью манеръ напоминалъ собою скорѣе двороваго, привыкшаго жить около господъ.
Онъ съ перваго же года службы попалъ въ деньщики и съ тѣхъ поръ постоянно находился на берегу, ни разу не ходивши въ море.
У Лузгиныхъ онъ жилъ въ деньщикахъ вотъ уже три года и, не смотря на требовательность барыни, умѣлъ угождать ей.
— А не замѣтно, что онъ пьяница? — снова спросила барыня, не любившая пьяныхъ деньщиковъ.
— Не оказываетъ будто по личности, а кто его знаетъ? Да вотъ сами изволите осмотрѣть и допросить деньщика, барыня! — прибавилъ Иванъ.
— Ну пошли его сюда!
Иванъ вышелъ, бросивъ на Анютку быстрый, нѣжный взглядъ.
Анютка сердито повела бровями.
II.
Въ дверяхъ показался коренастый, маленькаго роста чернявый матросъ съ мѣдною серьгой въ ухѣ. На видъ ему было лѣтъ пятьдесятъ. Застегнутый въ мундиръ, высокій воротникъ котораго рѣзалъ его краснобурую шею, онъ казался неуклюжимъ и весьма неказистымъ. Переступивъ осторожно черезъ порогъ, матросъ вытянулся, какъ слѣдуетъ, передъ начальствомъ, вытаращилъ на барыню слегка глаза и замеръ въ неподвижной позѣ, держа по швамъ здоровенныя волосатыя руки, жилистыя и черныя отъ впитавшейся смолы.
На правой рукѣ не доставало двухъ пальцевъ.
Этотъ черный, какъ жукъ, матросъ съ грубыми чертами некрасиваго, рябоватаго, съ красной кожей лица, сильно заросшаго черными, какъ смоль, баками и усами, съ густыми взъерошенными бровями, которыя придавали его типичной физіономіи заправскаго марсоваго нѣсколько сердитый видъ, — произвелъ на барыню видимо непріятное впечатлѣніе.
«Точно лучше не могъ найти!» — мысленно произнесла она, досадуя, что мужъ выбралъ такого грубаго мужлана.
Она снова оглядѣла стоявшаго неподвижно матроса и обратила вниманіе и на его слегка изогнутыя ноги съ большими, точно медвѣжьими, ступнями, и на отсутствіе двухъ пальцевъ, и — главное — на носъ, широкій, мясистый носъ, малиновый цвѣтъ котораго внушалъ ей тревожныя подозрѣнія.
— Здравствуй! — произнесла наконецъ барыня недовольнымъ, сухимъ тономъ, и ея большіе сѣрые глаза стали строги.
— Здравія желаю, вашескобродіе, — гаркнулъ въ отвѣтъ матросъ зычнымъ баскомъ, видимо не сообразивъ размѣра комнаты.
Этотъ окрикъ заставилъ барыню вздрогнуть.
— Не кричи такъ! — строго сказала она и оглянулась, не испугался ли ребенокъ. — Ты, кажется, не на улицѣ, а въ комнатѣ. Говори тише.
— Есть, вашескобродіе, — значительно понижая голосъ, отвѣтилъ матросъ.
— Еще тише. Можешь говорить тише?
— Буду стараться, вашескобродіе! — произнесъ онъ совсѣмъ тихо и сконфуженно, предчувствуя, что барыня будетъ «нудить» его.
— Какъ тебя зовутъ?
— Ѳедосомъ, вашескобродіе.
Барыня поморщилась точно отъ зубной боли. Совсѣмъ неблагозвучное имя!
— А фамилія?
— Чижикъ, вашескобродіе!
— Какъ? — переспросила барыня.
— Чижикъ... Ѳедосъ Чижикъ!
И барыня, и мальчуганъ, давно уже оставившiй молоко и не спускавшій любопытныхъ и нѣсколько испуганныхъ глазъ съ этого волосатаго матроса, невольно засмѣялись, а Анютка фыркнула въ руку, — до того фамилія эта не подходила къ его наружности.
И на серьезномъ и напряженномъ лицѣ Ѳедоса Чижика появилась необыкновенно добродушная и пріятная улыбка, которая словно бы подтверждала, что и самъ Чижикъ находитъ свое прозвище нѣсколько смѣшнымъ.
Мальчикъ перехватилъ эту улыбку, совсѣмъ преобразившую суровое выраженіе лица матроса. И нахмуренныя его брови, и усы, и баки не смущали больше мальчика. Онъ сразу почувствовалъ, что Чижикъ добрый, и онъ ему теперь рѣшительно нравился. Даже и запахъ смолы, который шелъ отъ него, показался ему особенно пріятнымъ и значительнымъ.
И онъ сказалъ матери:
— Возьми, мама, Чижика.
— Taisez-vous! [1] — замѣтила мать.
И принимая серьезный видъ, продолжала допросъ:
— У кого ты прежде былъ деньщикомъ?
— Вовсе не былъ въ этомъ званіи, вашескобродіе.
— Никогда не былъ деньщикомъ?
— Точно такъ, вашескобродіе. По флотской части состоялъ. Форменнымъ, значитъ, матросомъ, вашескобродіе..
— Зови меня просто барыней, а не своимъ дурацкимъ вашескобродіемъ.
— Слушаю, вашеско... виноватъ, барыня!
— И вѣстовымъ никогда не былъ!
— Никакъ-нѣтъ.
— Почему же тебя теперь назначили въ деньщики?
— По причинѣ пальцевъ! — отвѣчалъ Ѳедосъ, опуская глаза на руку, лишенную большаго и указательнаго пальцевъ. — Марса-фаломъ оторвало прошлымъ лѣтомъ на «конвертѣ», на «Копчикѣ»...
— Такъ мужъ тебя знаетъ?
— Три лѣта съ ими на «Копчикѣ» служилъ подъ ихъ командой.
Это извѣстіе, казалось, нѣсколько успокоило барыню. И она уже менѣе сердитымъ тономъ спросила:
— Ты водку пьешь?
— Употребляю, барыня! — добросовѣстно признался Ѳедосъ.
— И... много ее пьешь?
— Въ плепорцію, барыня.
Барыня недовѣрчиво покачала головой.
— Но отчего же у тебя носъ такой красный, а?
— Съ роду такой, барыня.
— А не отъ водки?
— Не должно быть. Я завсегда въ своемъ видѣ, ежели когда и выпью въ праздникъ.
— Деньщику пить нельзя... Совсѣмъ нельзя... Я терпѣть не могу пьяницъ! Слышишь? — внушительно прибавила барыня.
Ѳедосъ повелъ нѣсколько удивленнымъ взглядомъ на барыню и промолвилъ, чтобы подать реплику:
— Слушаю-съ!
— Помни это.
Ѳедосъ дипломатически промолчалъ.
— Мужъ говорилъ, на какую должность тебя берутъ?
— Никакъ нѣтъ. Только приказали явиться къ вамъ.
— Ты будешь ходить вотъ за этимъ маленькимъ бариномъ, — указала барыня движеніемъ головы на мальчика. — Будешь при немъ нянькой.
Ѳедосъ ласково взглянулъ на мальчика, а мальчикъ на Ѳедоса, и оба улыбнулись.
Барыня стала перечислять обязанности деньщика-няньки.
Онъ долженъ будить маленькаго барина въ восемь часовъ и одѣть его; весь день находиться при немъ безотлучно и беречь его какъ зеницу ока. Каждый день ходить гулять съ нимъ... Въ свободное время стирать его бѣлье...
— Ты стирать умѣешь?
— Свое бѣлье сами стираемъ! — отвѣчалъ Ѳедосъ и подумалъ, что барыня, должно быть, не очень башковата, если спрашиваетъ, умѣетъ-ли матросъ стирать.
— Подробности всѣхъ твоихъ обязанностей я потомъ объясню, а теперь отвѣчай: понялъ ты, что отъ тебя требуется?
Въ глазахъ матроса скользнула едва замѣтная улыбка.
«Не трудно, дескать, понять!» говорила, казалось, она.
— Понялъ, барыня! — отвѣчалъ Ѳедосъ нѣсколько удрученный и этимъ торжественнымъ тономъ, какимъ говорила барыня, и этими длинными объясненіями, и окончательно рѣшилъ, что въ барынѣ большого разсудка нѣтъ, коли она такъ зря «языкомъ брешетъ».
— Ну, а дѣтей ты любишь?..
— За что дѣтей не любить, барыня. Извѣстно... дитё. Чтò съ него взять...
— Иди на кухню теперь и подожди пока вернется Василій Михайловичъ... Тогда, я окончательно рѣшу: оставлю я тебя или нѣтъ.
Находя, что матросу въ мундирѣ слѣдуетъ добросовѣстно исполнить роль понимающаго муштру подчиненнаго, Ѳедосъ по всѣмъ правиламъ строевой службы повернулся налѣво кругомъ, вышелъ изъ столовой и прошелъ на дворъ покурить трубочки.
III.
— Ну что, Шура, тебѣ, кажется, понравился этотъ мужланъ?
— Понравился, мама. И ты его возьми.
— Вотъ у папы спросимъ: не пьяница-ли онъ?
— Да вѣдь Чижикъ говорилъ тебѣ, что не пьяница.
— Ему вѣрить нельзя.
— Отчего?
— Онъ матросъ... мужикъ. Ему ничего не стоитъ солгать.
— А онъ умѣетъ разсказывать сказки? Онъ будетъ со мной играть?
— Вѣрно умѣетъ и играть долженъ...
— А вотъ Антонъ не умѣлъ и не игралъ со мной.
— Антонъ былъ лѣнтяй, пьяница и грубіянъ.
— За это его и посылали въ экипажъ, мама?
— Да.
— И тамъ сѣкли?
— Да, милый, чтобъ его исправить.
— А онъ возвращался изъ экипажа всегда сердитый.. И со мной даже говорить не хотѣлъ...
— Оттого, что Антонъ былъ дурной человѣкъ. Его ничѣмъ нельзя было исправить.
— Гдѣ теперь Антонъ?
— Не знаю...
Мальчикъ примолкъ, задумавшись, и наконецъ серьезно проговорилъ:
— А ужъ ты, мама, если меня любишь, не посылай Чижика въ экипажъ, чтобъ его тамъ сѣкли, какъ Антона, а то и Чижикъ не будетъ разсказывать мнѣ сказокъ и будетъ браниться, какъ Антонъ...
— Онъ развѣ смѣлъ тебя бранить?
— Подлымъ отродьемъ называлъ... Это, вѣрно, что нибудь нехорошее...
— Ишь негодяй какой!... Зачѣмъ же ты, Шура, не сказалъ мнѣ, что онъ тебя такъ называлъ?
— Ты послала бы его въ экипажъ, а мнѣ его жалко...
— Такихъ людей не стоитъ жалѣть... И ты, Шура, не долженъ ничего скрывать отъ матери.
При разговорѣ объ Антонѣ Анютка подавила вздохъ.
Этотъ молодой, кудрявый Антонъ дерзкій и безшабашный, любившій выпить и тогда хвастливый и задорный, оставилъ въ Анюткѣ самыя пріятныя воспоминанія о тѣхъ двухъ мѣсяцахъ, что онъ пробылъ въ нянькахъ у барчука.
Влюбленная въ молодого деньщика, Анютка нерѣдко проливала слезы, когда баринъ, по настоянію барыни, отправлялъ Антона въ экипажъ для наказанія. А это частенько случалось. И до сихъ поръ Анютка съ восторгомъ вспоминаетъ, какъ хорошо онъ игралъ на балалайкѣ и пѣлъ пѣсни. И какіе у него смѣлые глаза. Какъ онъ не спускалъ самой барынѣ, особенно когда выпьетъ! И Анютка въ тайнѣ страдала, сознавая безнадежность своей любви. Антонъ не обращалъ на нее ни малѣйшаго вниманія и ухаживалъ за сосѣдской горничной.
Куда онъ милѣе этого барынина наушника, противнаго рыжаго Ивана, который преслѣдуетъ ее своими любезностями... Тоже воображаетъ о себѣ рыжій дьяволъ! Проходу на кухнѣ не даетъ...
Въ эту минуту ребенокъ, бывшій на рукахъ у Анютки, проснулся и залился плачемъ.
Анютка торопливо заходила по комнатѣ, закачивая ребенка и напѣвая ему пѣсни звонкимъ пріятнымъ голоскомъ.
Ребенокъ не унимался. Анютка пугливо взглядывала на барыню.
— Подай его сюда, Анютка! Совсѣмъ ты не умѣешь няньчить! — раздражительно крикнула молодая женщина, разстегивая бѣлою пухлою рукой воротъ капота.
Очутившись у груди матери, малютка мгновенно затихъ и жадно засосалъ, быстро перебирая губенками и весело глядя передъ собою глазами, полными слезъ.
— Убирай со стола да смотри не разбей чего-нибудь.
Анютка бросилась къ столу и стала убирать съ безтолковой торопливостью запуганнаго созданія.
IV.
Въ началѣ перваго часа, когда въ порту зашабашили, изъ военной гавани, гдѣ вооружался «Копчикъ», вернулся домой Василій Михайловичъ Лузгинъ, довольно полный, представительный брюнетъ, лѣтъ сорока, съ небольшимъ брюшкомъ и лысый, въ потертомъ рабочемъ сюртукѣ, усталый и голодный.
Въ моментъ его прихода завтракъ былъ на столѣ.
Морякъ звонко поцѣловалъ жену и сына и выпилъ одну за другой двѣ рюмки водки. Закусивъ селедкой, онъ набросился на бифстексъ съ жадностью сильно проголодавшагося человѣка. Еще-бы! Съ пяти часовъ утра, послѣ двухъ стакановъ чая, онъ ничего не ѣлъ.
Утоливъ голодъ, онъ нѣжно взглянулъ на свою молодую, пріодѣтую, пригожую жену и спросилъ:
— Ну что, Марусенька, поправился новый деньщикъ?
— Развѣ такой деньщикъ можетъ понравиться?
Въ маленькихъ, добродушныхъ, темныхъ глазахъ Василія Михайловича мелкнуло безпокойство.
— Грубый, неотесанный какой-то... Сейчасъ видно, что никогда не служилъ въ домахъ.
— Это точно, но за-то, Маруся, онъ надежный человѣкъ. Я его знаю.
— И этотъ подозрительный носъ... Онъ навѣрное пьяница! — настаивала жена.
— Онъ пьетъ чарку, другую, но увѣряю тебя, что не пьяница, — осторожно и необыкновенно мягко возразилъ Лузгинъ.
И зная хорошо, что Марусенька не любитъ, когда ей противорѣчатъ, считая это кровной обидой, онъ поспѣшилъ прибавить:
— Впрочемъ, какъ хочешь. Если не нравится, я пріищу другого деньщика.
— Гдѣ опять искать?.. Шурѣ не съ кѣмъ гулять... Ужъ Богъ съ нимъ... Пусть остается, поживетъ... Я посмотрю, какое это сокровище твой Чижикъ!
— Фамилія у него дѣйствительно смѣшная! — проговорилъ, смѣясь, Лузгинъ.
— И имя самое мужицкое... Ѳедосъ!
— Что-жъ, можно его иначе звать, какъ тебѣ угодно... Ты право, Маруся, не раскаешься... Онъ честный и добросовѣстный человѣкъ... Какой форъ-марсовой былъ!.. Но если ты не хочешь — отошлемъ Чижика... Твоя княжая воля...
Марья Ивановна и безъ увѣреній мужа знала, что влюбленный въ нее простодушный и простоватый Василій Михайловичъ дѣлалъ все, что только она хотѣла, и былъ покорнѣйшимъ ея рабомъ, ни разу въ теченіе десятилѣтняго супружества и не помышлявшимъ о сверженіи ига своей красивой жены.
Тѣмъ не менѣе, она нашла нужнымъ сказать:
— Хоть мнѣ и не нравится этотъ Чижикъ, но я оставлю его, такъ какъ ты этого хочешь.
— Но, Марусенька... Зачѣмъ?... Если ты не хочешь.
— Я его беру! — властно произнесла Марья Ивановна.
Василію Михайловичу оставалось только благодарно взглянуть на Марусеньку, оказавшую такое вниманіе къ его желанію. И Шурка былъ очень доволенъ, что Чижикъ будетъ его нянькой.
Новаго деньщика опять позвали въ столовую. Онъ снова вытянулся у порога и безъ особенной радости выслушалъ объявленіе Марьи Ивановны, что она его оставляетъ.
Завтра же утромъ онъ переберется къ нимъ со своими вещами. Помѣстится вмѣстѣ съ поваромъ.
— А сегодня въ баню сходи... Отмой свои черныя руки, — прибавила молодая женщина, не безъ брезгливости взглядывая на просмоленныя шершавыя руки матроса.
— Осмѣлюсь доложить, вразъ не отмоешь... Смола! — пояснилъ Ѳедосъ и какъ бы въ подтвержденіе справедливости этихъ словъ перевелъ взглядъ на бывшаго своего командира.
«Дескать, объясни ей, коли она ничего не понимаетъ!»
— Со временемъ смола выйдетъ, Маруся... Онъ постарается ее вывести...
—Такъ точно, вышескобродіе.
— И не кричи ты такъ, Ѳеодосій... Ужъ я тебѣ нѣсколько разъ говорила...
— Слышишь, Чижикъ... Не кричи! — подтвердилъ Василій Михайловичъ.
— Слушаю, вашескобродіе...
— Да смотри, Чижикъ, служи въ деньщикахъ такъ же хорошо, какъ служилъ на корветѣ. Береги сына.
— Есть, вашескобродіе!
— И водки въ ротъ не бери! — замѣтила барыня...
— Да, братецъ, остерегайся, — нерѣшительно поддакнулъ Василій Михайловичъ, чувствуя въ то же время фальшь и тщету своихъ словъ и увѣренный, что Чижикъ при случаѣ выпьетъ въ мѣру.
— Да вотъ еще, что Ѳеодосій... Слышишь, я тебя, буду звать Ѳеодосіемъ...
— Какъ вгодно, барыня.
— Ты разныхъ тамъ мерзкихъ словъ не говори, особенно при ребенкѣ. И если на улицѣ матросы ругаются, уводи барина.
— То-то, не ругайся, Чижикъ. Помни, что ты не на бакѣ, а въ комнатахъ!
— Не извольте сумлѣваться, вашескобродіе.
— И во всемъ слушайся барыни. Что она прикажетъ, то и исполняй. Не противорѣчь...
— Слушаю, вашескобродіе...
— И Боже тебя сохрани, Чижикъ, осмѣлиться нагрубить барынѣ. За малѣйшую грубость я велю тебѣ шкуру спустить! — строго и рѣшительно сказалъ Василій Михайловичъ. — Понялъ?
— Понялъ, вашескобродіе.
Наступило молчаніе.
«Слава Богу, конецъ!» — подумалъ Чижикъ.
— Онъ больше тебѣ не нуженъ, Марусенька?
— Нѣтъ.
— Можешь идти, Чижикъ... Скажи фельдфебелю, что я взялъ тебя! — проговорилъ Василій Михайловичъ добродушнымъ тономъ, словно бы минуту тому назадъ и не грозилъ «спустить шкуры».
Чижикъ вышелъ словно изъ бани и, признаться, былъ сильно озадаченъ поведеніемъ бывшаго своего командира.
Еще бы!
На корветѣ онъ казался орелъ-орломъ, особенно, когда стоялъ на мостикѣ во время авраловъ, или управлялся въ свѣжую погоду, а здѣсь вотъ, при женѣ, совсѣмъ другой, «вродѣ бытто послушливаго теленка». И опять же на службѣ онъ былъ съ матросомъ «доберъ», дралъ рѣдко и съ разсудкомъ, а не зря, и этотъ же самый командиръ изъ-за своей «бѣлобрысой» шкуру грозитъ спустить.
«Эта заноза-баба всѣмъ здѣсь командуетъ!» — подумалъ Чижикъ не безъ нѣкотораго презрительнаго сожалѣнія къ бывшему своему командиру.
«Ей, значитъ, трафь!» — мысленно проговорилъ онъ.
— Къ намъ перебираетесь, землякъ? — остановилъ его на кухнѣ Иванъ.
— То-то къ вамъ, — довольно сухо отвѣчалъ Чижикъ, вообще не любившій деньщиковъ и вѣстовыхъ и считавшій ихъ, по сравненію съ настоящими матросами, лодырями.
— Мѣста, не бойсь, хватитъ... У насъ помѣщеніе просторное... Не прикажете-ли цыгарку?..
— Спасибо, братецъ. Я — трубку... Пока-что до свиданія.
Дорогой въ экипажъ, Чижикъ размышлялъ о томъ, что въ деньщикахъ да еще съ такой «занозой», какъ Лузгиниха, будетъ «нудно». Да и вообще жить при господахъ ему не нравилось.
И онъ пожалѣлъ, что ему оторвало марса-фаломъ пальцы. Не лишись онъ пальцевъ, былъ бы онъ по прежнему форменнымъ матросомъ до самой отставки.
— А то: «водки въ ротъ не бери!» Скажи, пожалуйста, что выдумала бабья дурья башка! — вслухъ проговорилъ Чижикъ, подходя къ казармамъ.
[1] Замолчи, заткнись (франц.). – Въ исходномъ изданіи переводъ отсутствуетъ. – Примѣчаніе издателя.
Загрузить полный текстъ произведенія въ форматѣ pdf: Загрузить безплатно
Наша книжная полка въ Интернетъ-магазинѣ ОЗОН,
въ Яндексъ-Маркетѣ, а также въ Мега-Маркетѣ (здѣсь и здѣсь).