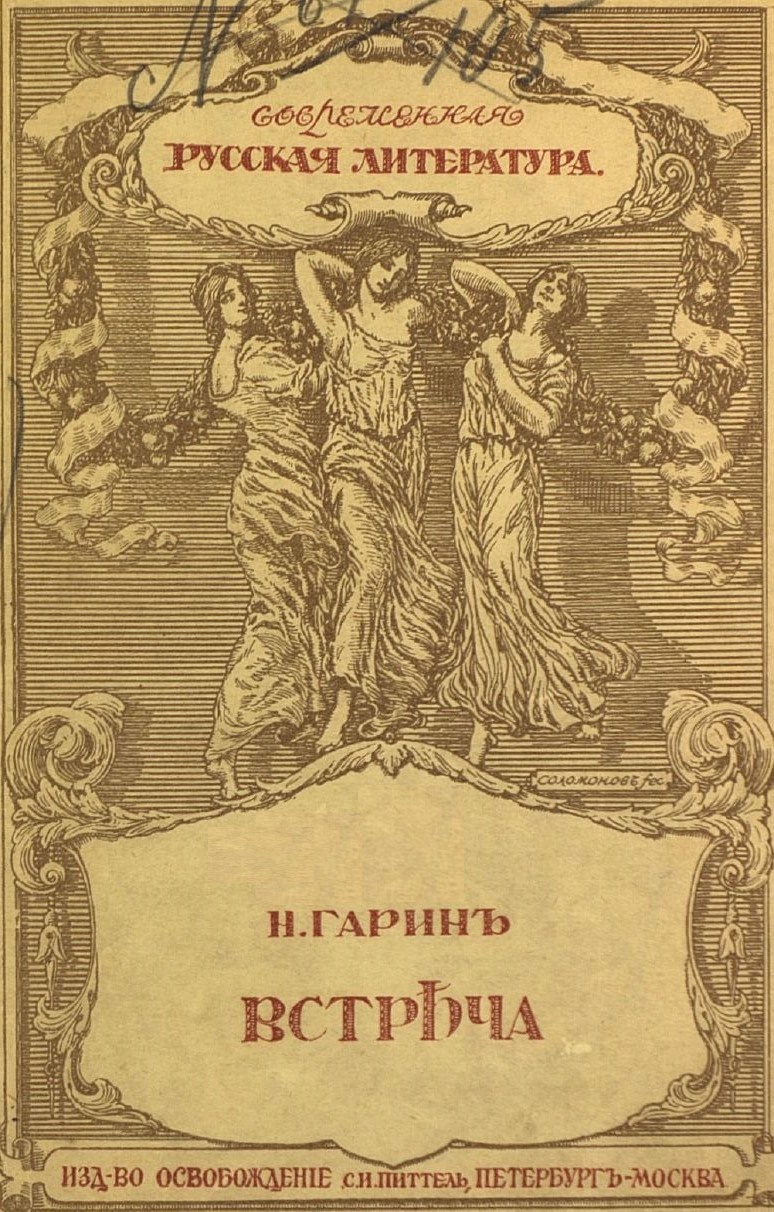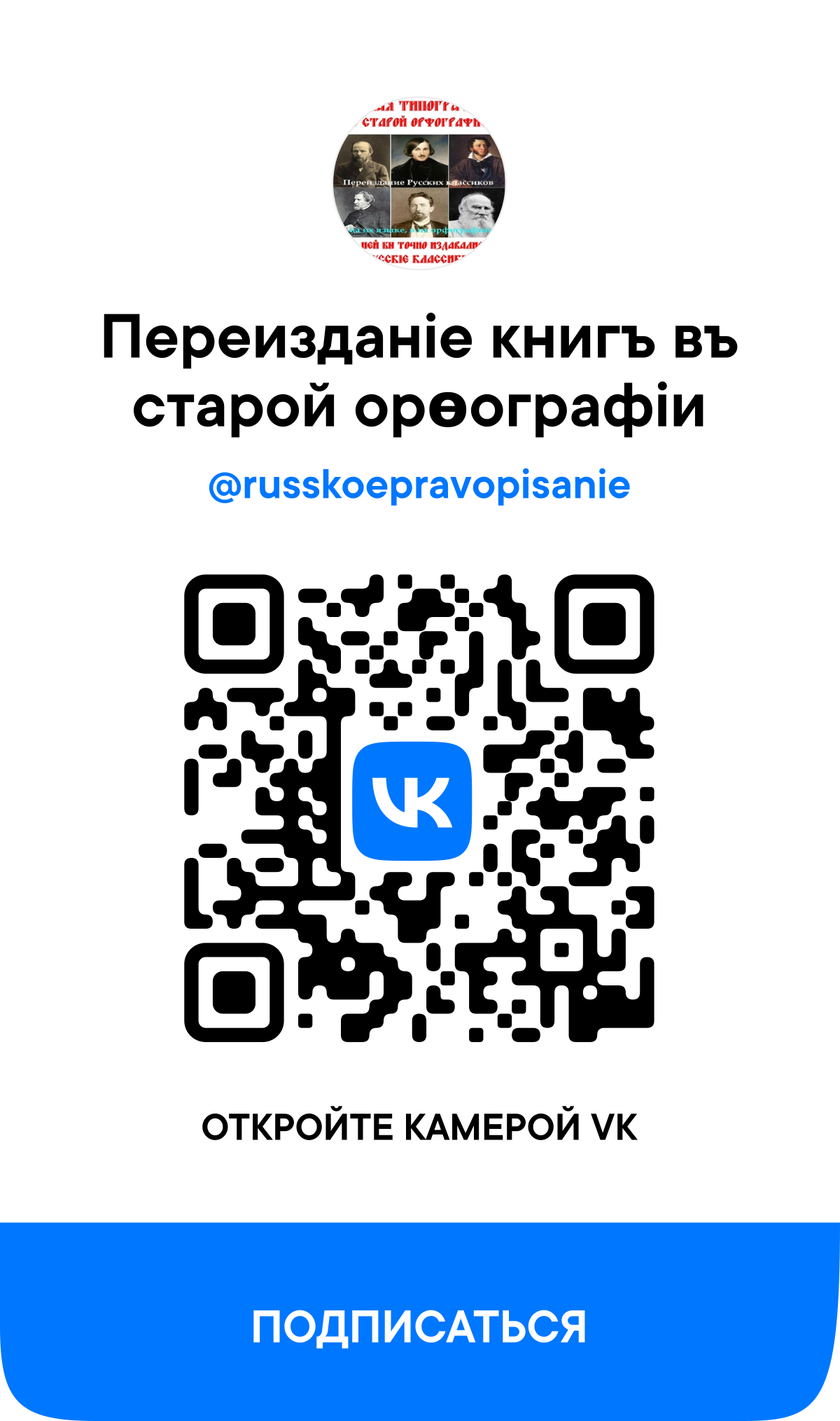Н. ГАРИНЪ.
ВСТРѢЧА.
К-во «ОСВОБОЖДЕНІЕ»
С.-ПЕТЕРБУРГЪ – МОСКВА
1913 г.
ВСТРѢЧА.
Я добрался, наконецъ до парохода и отдыхаю послѣ душнаго дня, тряски перекладныхъ и пыли, отъ которой часъ отмывался и все-таки какъ слѣдуетъ не отмылся.
Надѣлъ чистый китель военнаго врача, причесался, заглянулъ въ зеркало. Да, вотъ какая-нибудь такая игра природы: круглые глаза, носъ крючкомъ, кувшинное лицо — мелочь съ точки зрѣнія безконечности тамъ, а въ обыденной жизни — вся жизнь на смарку.
И въ милліонъ сто первый разъ проговоривъ себѣ: «Ну, и чортъ съ тобой!», пошелъ наверхъ въ залу.
Солнце сѣло, темнѣетъ. День кончился, но свѣтъ электрическихъ лампочекъ еще борется съ послѣднимъ отблескомъ вечерней зари. Въ противоположномъ зеркалѣ отражается движущійся берегъ рѣки, охваченный блѣднымъ, умирающимъ просвѣтомъ запада, но рядомъ изъ окна на югъ уже глядитъ синяго бархата темный вечеръ, мягкій, теплый. Можетъ быть, для какого-нибудь всесвѣтнаго туриста въ сравненіи съ какимъ-нибудь вечеромъ юга, съ его красками, этотъ вечеръ Волги и ничего не стоитъ, но намъ, маленькимъ людямъ послѣ будничной жизни въ мѣстечкѣ съ полкомъ, этотъ вечеръ — рай земной.
А вотъ и музыка. Какая-то дама въ томъ концѣ залы играетъ. Мнѣ видны только ея голубая, цвѣта небесной лазури, накидка, яркаго краснаго шелка кофточка, перехваченная стройно высокимъ поясомъ, да красивые, волнистые, свѣтлые волосы.
Послѣ моей трущобы и эта музыка и мирный шумъ воды волнуютъ душу, будятъ какія-то воспоминанія. Воспоминанія у меня, у военнаго врача, да еще съ такой почтенной рожей доктора?!
Какой-то господинъ вошелъ. Моихъ лѣтъ, а можетъ быть, и моложе. Высокій, худой, съ манерами свѣтскаго человѣка.
Лицо продолговатое, черная борода ярче оттѣняетъ матовую блѣдность, глаза черные, ласковые, слегка усталые. Немного горбится, но чувствуется, что его сгорбленная фигура можетъ еще быть и прямой и молодой. Это не то, что моя медвѣжья фигура начинающаго добрѣть армейца, съ аршинной ступней. Тамъ рѣзецъ тонкій. Что-то въ фигурѣ неудовлетворенное. Быстро вдругъ подошелъ ко мнѣ и, слегка гортаннымъ, пріятнымъ голосомъ проговорилъ:
— Мы кажется, были съ вами знакомы въ университетѣ?
— Да, кажется...
Въ горлѣ у меня, какъ у привыкшаго молчать провинцiала, что-то застряло и потребовалось откашляться, что я и принялся продѣлывать, выпуская изъ своей обширной гортани разнообразныя стаккаты.
— Вы мало перемѣнились, — проговорилъ онъ, — то же молодое лицо... Оно такъ и осталось у меня въ памяти и я сейчасъ узналъ васъ. Около васъ всегда былъ кружокъ вашихъ почитателей и я, тайный...
Онъ наклонился, дѣтская улыбка освѣтила его лицо. Я смутился, махнулъ рукою и угрюмо отвѣтилъ:
— Да это ужъ забыть надо!
— Вы — докторъ?
— Да, какъ видите... А вы?..
— Сперва съ вами на естественномъ былъ, потомъ на юридическій перешелъ... Дослужился до товарища предсѣдателя окружного суда, теперь присяжный повѣренный...
«Да, вотъ, — думалъ я, — товарищемъ предсѣдателя уже успѣлъ побывать... Вотъ какъ дѣлаютъ люди карьеру... а ты въ полку, въ мѣстечкѣ, въ одиночномъ заключеніи съ живой могилой всякихъ юношескихъ мечтаній»...
Онъ сѣлъ противъ меня на стулѣ, я опустился на свой диванъ, разставивъ ноги мѣшкомъ по провинцiальной манерѣ, весь ушедшій въ себя, весь отдавшійся своимъ чернымъ мыслямъ.
Мы еще о чемъ-то говорили. Онъ сообщилъ мнѣ, что онъ женатъ, отецъ семейства, что-то еще вспоминали, но такъ какъ вспоминать было нечего, то и разговоръ нашъ клеился плохо.
Дама кончила играть, встала, смѣрила насъ взглядомъ, какъ бы раздумывая, и лѣниво позвала:
— Александръ Павловичъ!
Черноцкій, мой товарищъ, вставъ, проговорилъ, какъ бы въ оправданіе, указывая ей на меня:
— Неожиданная встрѣча двухъ товарищей...
Она сдѣлала какой-то скучающій намекъ на улыбку, и такое выраженіе, какъ бы говорила: что мнѣ до этого?
Я поднялся, чтобъ уйти, и на вопросъ Черноцкаго отвѣтилъ благодушно:
— Хочется немного на палубѣ посидѣть.
Они оба подарили меня благодарнымъ взглядомъ Не трудно въ сущности заслужить людскую благодарность.
Кто она, жена его?
Сижу на палубѣ и думаю, что теперь было бы, если бъ я сидѣлъ въ своемъ мѣстечкѣ?
Время къ ужину — деньщикъ накрываетъ толстаго полотна скатерть на столъ, ставитъ неизмѣнный судокъ, рюмку съ надбитой шейкой, графинчикъ, холодную отварную говядину, хрѣнъ.
Вваливается субалтернъ-офицеръ, забулдыга Кирсановскій, и начинаетъ приговаривать:
— Маленькая котлетка и четверть баранины — и сытъ человѣкъ; маленькая рюмка рябиновки и четверть очищенной — и пьянъ человѣкъ; маленькая подушечка, еще что-то — и спитъ человѣкъ!
Человѣкъ все-таки, а не животное. И десять лѣтъ съ такимъ товарищемъ!
Э-эхъ! — несется мой густой вздохъ по палубѣ. Оглядываются: какой такой бегемотъ вылѣзъ изъ воды и вздыхаетъ?
— Ну, что-жъ, ужинать и спать.
Спустился въ рубку, заказалъ поросенка подъ хрѣномъ, водки, пива, полпорціи свѣжей икры. Досталъ книгу.
Вошелъ еще какой-то господинъ, жиденькій, пожилой, съ рѣдкими, зачесанными сѣдыми волосами, со взглядомъ въ которомъ чувствуется претензія какая-то. Господинъ прошелъ на палубу и скоро возвратился съ дамой въ голубой накидкѣ. Черноцкій шелъ за нимъ, лѣнивый и угрюмый.
Господинъ, а за нимъ и она прошли въ край залы, гдѣ стоялъ рояль, а Черноцкій, дойдя до половины стола, остановился въ раздумьи. Онъ лѣниво протянулъ руку, нажалъ пуговку и, когда вошелъ человѣкъ, бросилъ:
— Карточку.
Затѣмъ, обратившись къ сѣдому господину, проговорилъ съ почтительной фамильярностью:
— А вы, ваше превосходительство, не проголодались еще?
— Н-нѣтъ.
Но дама, быстро проговоривъ: «а я голодна», подошла къ Черноцкому и начала разсматривать съ нимъ карточку. Она стояла спиной къ пожилому господину, но лицомъ къ Черноцкому и ко мнѣ.
— Что ѣстъ вашъ товарищъ?
— Вы что ѣдите?
Я покраснѣлъ, поднялъ глаза и встрѣтился съ ея взглядомъ.
— Поросенка подъ хрѣномъ.
Она слегка усмѣхнулась, перевела глаза на Черноцкаго, — очевидно, Черноцкій не ея мужъ: на мужей такъ не смотрятъ.
Она поймала мой взглядъ и твердо смотритъ, и глаза смѣются. Ну, бабенка! А Черноцкій же при чемъ тутъ?
— Познакомьте же меня...
Черноцкій смущенъ.
— Гм... — онъ комично косится на генерала, изображаетъ нѣкоторое затрудненіе въ лицѣ и говоритъ офиціальнымъ голосомъ свѣтскаго человѣка:
— Позвольте вамъ представить моего товарища...
Затѣмъ Черноцкій, дѣлая движеніе въ сторону господина говоритъ:
— Ваше превосходительство, позвольте вамъ представить...
И мы съ генераломъ, съ кислыми физiономiями, идемъ другъ къ другу.
Я понялъ этотъ маневръ, когда супругъ отъ перспективы разговаривать съ такой особой, какъ я, — а ничего другого, очевидно, для него не предназначалось, — предпочелъ, сдѣлавъ озабоченное лицо, сбѣжать въ каюту.
Мы остались втроемъ въ залѣ, и я недоумѣвалъ: что же мнѣ теперь дѣлать? Роль моя, очевидно, была сыграна. Доѣсть и спать.
Но она пошла вокругъ стола и сѣла совсѣмъ рядомъ со мной.
Руку свою, выше локтя оголенную, она положила на столъ, облокотила на нее свою голову и смотрѣла на меня такъ, что мнѣ казалось, что она въ это время думала: «пожалуйста, не думай, что твоя физіономія можетъ меня испугать или быть непрiятной».
Въ отвѣтъ на это я только усердно засовывалъ себѣ въ ротъ громадные куски своего поросенка.
Она усмѣхнулась и проговорила:
— Не подавитесь...
— Благодарю за совѣтъ; буду радъ, въ свою очередь быть полезнымъ.
— Уговорите вашего товарища высадиться вмѣстѣ съ нами.
Я посмотрѣлъ на Черноцкаго. На мгновеніе лицо его сдѣлалось чернѣе ночи, но онъ ничего не отвѣтилъ и, отойдя къ окну, сталъ смотрѣть на рѣку.
Я молча развелъ передъ ней руками и проговорилъ:
— Нельзя-ли что-нибудь попроще, вродѣ: пиль, аппортъ...
Она усмѣхнулась.
Подошелъ Черноцкій.
— Мы, вѣдь, ничего еще не заказали.
— Такъ заказывайте.
— Я не знаю, чего вы хотите?
— Должны знать.
— Marie! — позвалъ жену изъ коридора голосъ супруга.
Она вышла; возвратилась и сухо проговорила:
— Я не буду ужинать... Прощайте...
Она бросила многозначительный взглядъ Черноцкому, протянула намъ руку; пройдя до коридора, остановилась тамъ и, положивъ руку на косякъ, повернула голову къ Черноцкому:
— Вы поѣдете съ нами?
Черноцкій въ отвѣтъ быстро подошелъ къ ней, съ ней вмѣстѣ прошелъ въ коридоръ и, завернувъ, оба они исчезли на палубѣ.
Черезъ нѣсколько минутъ на мгновеніе заглянула фигура супруга, скользнула по мнѣ холоднымъ, даже ледянымъ взглядомъ, какъ будто я и былъ главный виновникъ всего, и скрылась.
Я подождалъ еще, всталъ и ушелъ въ общую мужскую каюту.
Чьи-то вещи лежали, кромѣ моихъ, на одной изъ коекъ. Вѣроятно, Черноцкаго — и больше никого: спать будетъ просторно, не душно. Какой-то червякъ неудовлетворенiя сосалъ меня, какъ будто сильнѣе даже, чѣмъ тамъ, въ мѣстечкѣ.
Если тамъ сонъ, который долженъ перейти — и такъ и перейдетъ — въ смерть, если такова неизбѣжная судьба, то тамъ сонъ безъ пробужденія, безъ скучнаго сознанія, которое буравитъ, что вотъ-де не для тебя весна придетъ, не для тебя всѣ эти ароматы какой-то, можетъ быть и пошлой по существу, жизни, но красивой, яркой, съ этими красавицами...
Вѣдь человѣкъ и я, какъ-ни-какъ, и если ко всякимъ «ничего» нѣтъ и этого, то къ чему же, наконецъ, сводится жизнь?
Вѣдь десять лѣтъ сна въ казематахъ своего мѣстечка съ субалтернъ-офицеромъ Кирсановскимъ!
Ѣлъ, пилъ, спалъ сорокъ лѣтъ; ѣлъ, пилъ, спалъ пятьдесятъ лѣтъ...
Ну и спи жалкое, униженное жизнью, природой и судьбой существо: ѣшь, пей, спи въ своемъ сѣромъ погребѣ жизни и смотри въ свое зеркало, но не смѣй претендовать, не смѣй думать, что можешь увидѣть ты тамъ какое-нибудь другое отраженіе, кромѣ торчащаго тамъ урода-обезьяны.
И вотъ крючокъ, на которомъ закопченнымъ окорокомъ смирно висишь, чтобы, повернувшись неосторожно, не сорваться и не полетѣть въ какую-то, уже окончательную, бездну.
Черноцкій вошелъ. Онъ былъ задумчивъ, разсѣянъ. Нѣкоторое время онъ стоялъ, затѣмъ рѣшительно началъ раздѣваться.
Значитъ, не поѣдетъ съ ней. Молодецъ. Почему — молодецъ? Добродѣтель удовлетворена? А мнѣ что за дѣло? Не за добродѣтель, а за характеръ.
Замѣтивъ, что я лежу и смотрю на него, онъ спросилъ:
— Не спите?
— Не спится что-то, — отвѣтилъ я, вздохнувъ.
Въ сущности, если бы онъ сказалъ: «скучно», а я бы отвѣтилъ ему вздохомъ стараго пріятеля, которому досконально извѣстны всѣ тѣ корни, которыми питается это растеніе — «скучно», то интонація нашихъ голосовъ ближе подошла бы къ нашему разговору.
Улегшись, онъ спросилъ:
— Вы какъ, при свѣтѣ спите?
— Мнѣ все равно.
— Потушимъ, можетъ быть?
Я повернулъ электрическій винтикъ своей лампочки, онъ своей, и мы очутились впотьмахъ. И только въ маленькихъ окнахъ игралъ металлическій блескъ лунныхъ лучей, теряясь въ темной каютѣ.
Нѣкоторое время длилось молчаніе.
Что за человѣкъ этотъ Черноцкій? Молится тоже своимъ богамъ? И кто эти боги? Не въ области будущаго огня, очевидно. Карьера? Деньги? Женщины, вино и карты? Кто бы ни былъ: удовлетворенъ онъ, или и его своя филоксера поѣдаетъ?
Странно дѣйствуетъ темнота на нервную систему: я уже забылъ лицо Черноцкаго и кажется мнѣ теперь, что это говоритъ какой-то совсѣмъ незнакомый мнѣ человѣкъ. Вспоминаю: худой, высокій, красивый, а впрочемъ, какъ на чей взглядъ. Что-то въ глазахъ есть, что должно нравиться женщинамъ. Очевидно и нравится. Кажется, человѣкъ добрый, и жизнь какъ будто упростила его. Какъ бы въ отвѣтъ, онъ заговорилъ смущенно:
— Вы, конечно, не могли не замѣтить и сами, что не все обстоитъ благополучно въ этомъ лучшемъ изъ міровъ?
Онъ остановился, послышалось еще большее смущеніе и насмѣшка.
— А особенно, если прибавить, что я человѣкъ семейный... Вы тоже семейный? — спросилъ онъ.
— Нѣтъ.
— Вотъ ужъ не ожидалъ.
— Почему?
— Да выглядите ужъ вы такимъ папашей... Что же вы не женились?
— Не пришлось...
Мы опять замолкли.
— Есть такая наука — физіологія? — спросилъ Черноцкій.
— Какъ же.
— Тамъ долгъ совѣсти — а она и знать ничего этого не желаетъ?
— Но вы-то, кажется, удачно справляетесь съ ней?
— Только, пожалуйста, не приписывайте это моей добродѣтели: нѣтъ ничего пошлѣе, какъ морочить себя и другихъ.
Онъ помолчалъ и устало проговорилъ:
— Мнѣ ужъ очень хочется вытравить въ васъ ту дозу уваженія, которую вы можете почувствовать ко мнѣ... Вы хотите спать?
— Нѣтъ.
— Хотите послушать нѣчто, что вамъ дастъ ключъ къ уразумѣнію?
— Если вамъ это не затруднительно, съ удовольствіемъ.
Онъ разсѣянно отвѣтилъ:
— Не затруднительно. Сейчасъ... Вотъ хочу только дать себѣ отчетъ, почему я именно вамъ хочу разсказать...
Онъ подумалъ и продолжалъ:
— У Гейне есть гдѣ-то, что женщина всего легче отдается незнакомцу, съ которымъ знаетъ, что никогда не встрѣтится больше. Ну, вотъ, вѣроятно, у меня нѣчто подобное. А можетъ быть, я хочу спросить у васъ совѣта?.. Нѣтъ, серьезно... Кто можетъ поручиться, сидя въ своемъ съ мясомъ и нервами тѣлѣ, что онъ застрахованъ отъ мгновеннаго соблазна? Я никому не повѣрю: и «Tentation de St. Antone» [1] меня достаточно убѣждаетъ.
…И вотъ одно только такое мгновеніе, — и можетъ появиться на свѣтъ новое существо... Я не объ этомъ даже существѣ, я о сѣтяхъ, въ которыхъ уже треплется рыбка… Чѣмъ больше треплется, тѣмъ больше запутывается. Я это не въ оправданіе говорю. Я только констатирую фактъ. А что до меня, то человѣку, который всю свою жизнь налаживается полегче, все это тѣмъ болѣе естественно.
...To, что хочу вамъ разсказать, — не романъ, не повѣсть, а правда, какъ она была, безъ всякихъ прикрасъ, и потому предупреждаю, очень невкусная... Все грубо и прозаично до той степени, когда это называется уже не книгой, а самой жизнью… И съ точки зрѣнія книги здѣсь ничего интереснаго... Окончательно ничего... Ни возвышенныхъ стремленій, ни идей, ни героя даже… сѣро до гадости...
— Книга занимается, — замѣтилъ я, — не всегда одними героями: толпа, ея рамки, условія ея жизни...
— Хорошо сказано... Я — толпа, презрѣнная толпа, которая всегда въ рамкахъ, для нея созданныхъ, въ условіяхъ дѣйствительной жизни... Отлично... это немного расширяетъ введеніе... Вы еще не хотите спать?
— Я слушаю.
— Ну, вы отчасти знаете мои условія: были мы въ университетѣ вмѣстѣ... Вы, положимъ, увлекались, а я и тогда уже былъ въ охлажденномъ состояніи хотя, сколько помню себя, въ доброжелательномъ, что ли въ отношеніи тамъ всякаго рода увлеченiй молодости… Я только больше вѣрилъ своимъ практическимъ точкамъ приложенiя...
Онъ весело перебилъ меня:
— Теперь, кажется, мы съ вами опять въ одинаковыхъ условіяхъ: точекъ приложенія ни у васъ, ни у меня... Но у васъ сохранившаяся сила... Черезъ десять еще, ну, двадцать лѣтъ, вы съ вашей сохранившейся силой, я съ своей несохранившейся будемъ оба смирно лежать подъ гробовой плитой… а?..
Юноша, быть можетъ, полный жизни и вѣры въ свои силы, остановится довѣрчиво, почтительно передъ нашими могилами... Жили, дескать, страдали за лучшее будущее... А можетъ быть, и докопается до истины и отъ насъ обоихъ отвернется: отъ меня — за жаръ души, растраченный въ пустынѣ, отъ васъ — за зарытую въ землѣ силу... Но, вѣдь, отвернется или не отвернется, а мы-то съ вами живемъ до предѣла, утѣшаясь, конечно, что не всякому же поколѣнію на долю выпадаетъ свершить... У китайцевъ вотъ семьдесятъ поколѣній только навозъ временъ... по четыреста милліоновъ каждый разъ: партiя почтенная. А впрочемъ... Къ чему все это? Какъ одна изъ моихъ дамъ говоритъ: «при чемъ тутъ умъ!»
Онъ зажегъ спичку, закурилъ папироску и заговорилъ дѣловымъ тономъ человѣка рѣшившаго не отвлекаться:
— Жилъ я, собственно, безпечально, — были связи, средства, женился хорошо, по службѣ везло. Чего же лучше?.. А... Что?.. Лѣтомъ на дачѣ, зимой въ губернскомъ городѣ. Карты спектакли, легкій флиртъ, сплетни surtout [2].
...Ну, словомъ, жизнь, какой живутъ провинціальные чиновничьи центры… Взятки брать нехорошо, конечно, но если Иванъ Ивановичъ беретъ, то говорить о взяткахъ, значитъ, его оскорблять — вопросъ о взяткахъ прочь... Прочь, да прочь, пока не останется въ обиходѣ что-то вродѣ самаго несложнаго воляпюка: пасъ, пять пикъ...
...Опять повторяю: это не ропотъ, и азъ первый изъ сихъ, приспособленныхъ... Господи, я не только никогда не кончу такъ, но и не начну...
— Окончательно начинаю... Я хочу вамъ объяснить, почему я не поѣду съ этой дамой... Итакъ... Ѣхалъ я однажды на пароходѣ… Ура! я началъ! Была ранняя весна, и не весна даже, а настоящая осень. Вѣтеръ свисталъ, рвалъ воду, было холодно, сыро и неуютно.
Пассажировъ было только двое: я и она… Она сразу произвела на меня впечатлѣніе: порывистая и робкая… довольно красивая, довольно стройная, съ нѣкоторой привычкой одѣваться... Днемъ въ общей каютѣ только я и она...
Я сижу, читаю, хожу... Иногда оставляю чтеніе и смотрю ей въ глаза... потверже… Она тоже смотритъ въ мои, точно спрашивая: зачѣмъ ты смотришь и чего ты хочешь?
Ничего не хочу...
Такъ прошли сутки, мы все смотрѣли, но ни однимъ словомъ не обмолвились.
А затѣмъ вдругъ заговорили и сразу стали старыми знакомыми. Она кое-что читала, кой о чемъ думала, — однимъ словомъ, во всѣхъ отношеніяхъ подходящая спутница. Ну, красивая, молодая, стройная и ко всему испытывающая удовольствіе — котораго нельзя выразить, если нѣтъ его — отъ общества и разговора со мной.
Я это чувствовалъ, и это давало тонъ нашему сближенiю. Было весело, время летѣло, ни о чемъ не думалось, что и требовалось доказать.
Разъ какъ-то, когда пароходъ стоялъ, мы гуляли на берегу и щелкали зубами отъ холода.
Раздался выстрѣлъ, и утка, которую мы провожали глазами въ небѣ, упала къ нашимъ ногамъ.
Моя спутница бросилась къ уткѣ и, осмотрѣвъ, вскрикнула въ отчаяніи:
— Она вѣдь съ яйцомъ!
Я не знаю, почему мнѣ врѣзалась въ память вся эта сцена. Эта утка, жажда въ страстномъ порывѣ полета и моя спутница, ея отчаянiе... свѣжая ранняя весна… и въ той уткѣ такая же жажда жизни… порывъ, смятенье…
Она для меня вся вырисовывалась со всѣми своими подробностями въ этой сценѣ: порывистая, добрая, практичная хозяйка — яйцо нащупала, — и чисто-женскій, природой вложенный инстинктъ: не такъ важна даже смерть, сама, какъ это яйцо, продолженіе потомства.
И жажда жизни, какъ и въ той уткѣ, порывъ, смятеніе души, можетъ быть, больной... Минутами, когда она задумывалась, взглядъ у нея былъ жгучій, сильный, мятежный, устремленный туда, куда-то.
Я вѣдь не герой романа здоровой женщины... Но ищущая, смятенная душа и притомъ — это не хвастовство — чистая по существу, она сама идетъ на меня...
Ну, словомъ, какъ-то подъ вечеръ… Солнце выгнуло изъ-за тучъ, освѣтило берега, воду, даль, ее, — можетъ быть, вызвало какую-то больную память, защемило сердце и куда-то рванулось... И вдругъ порывъ слишкомъ мягкій и искренній для того, чтобы можно было о чемъ-нибудь разсуждать... Да и не хочется разсуждать… Подошло — и хорошо… Страсть ли подкупила, или эта беззавѣтность сближенія, хотѣлось ли этимъ путемъ просто стать сразу близкимъ, своимъ человѣкомъ къ человѣку, который пришелся по душѣ? Встрѣчаются же такія лица, съ которыми хочется навсегда сохранить что-то самое близкое! Съ женщиной тогда сближеніе можетъ и этимъ чувствомъ быть вызвано.
Не знаю, ничего не знаю, но эти два дня, что мы провели на пароходѣ, насъ тянуло другъ къ другу; я былъ точно въ какомъ-то забытьи и, просыпаясь, радостно встрѣчалъ ея счастливый взглядъ.
Мы говорили другъ другу:
— Не будемъ ни о чемъ изъ прошлаго говорить, не будемъ ничего вспоминать, завтра мы навсегда разстанемся, но этотъ день, два — они наши!!
...И теперь эти дни — звѣзды на моемъ небѣ, и чѣмъ темнѣе на небѣ, тѣмъ ярче свѣтятъ звѣзды; эти звѣзды свѣтятъ мнѣ — это я говорю, и ничья, ничья рука не сорветъ ихъ оттуда…
Черноцкій помолчалъ и лѣниво продолжалъ:
— Въ Ярославлѣ мы провели нашъ послѣдній день. Ѣздили въ монастырь. Помните вы эти длинные желтые коридоры монастырей, съ звонкимъ эхо шаговъ, маленькія церкви, въ которыхъ когда-то молились другіе люди и, кажется, сохранился въ этихъ церквахъ еще и теперь тотъ воздухъ, которымъ дышали тѣ люди... Образъ тѣхъ людей здѣсь, вмѣстѣ съ ней, смущалъ меня, но она, стоя на колѣняхъ, горячо молилась. Ея нѣжные прекрасные волосы выбились и волной падали ей на плечи: красивая, стройная, страстная… Лицо возбужденное, полное жизни, огня…
Я, пьяный порывомъ къ ней въ эту минуту, смотрѣлъ на нее.
Она встала, встрѣтила мой взглядъ, и глаза ея тоже сверкнули...
Бѣдный молодой монахъ насъ проводилъ; можетъ быть, мы внесли разладъ въ его молодую, уже начавшую остывать душу.
Мы вышли, и онъ долго смотрѣлъ намъ вслѣдъ.
И я замѣтилъ, что монахъ, можетъ быть, завидуетъ намъ.
Она садясь въ экипажъ съ улыбкой счастья, посмотрѣла на монаха и спросила лукаво:
— А развѣ есть чему завидовать?
И затѣмъ, голосомъ искреннимъ, полнымъ радости жизни, порывисто воскликнула:
— Боже мой! мнѣ никогда ни снилось такое счастье! Пусть остальная вся жизнь будетъ однимъ горемъ для меня — за эти два дня, клянусь, я буду безъ ропота нести свой крестъ.
Она сдержала свою клятву. Мы подъѣхали къ городу, она сказала:
— Милый, подари мнѣ еще одинъ вечеръ... Завтра утромъ тоже идутъ поѣзда въ Москву.
Мы провели еще одинъ вечеръ въ большой старинной комнатѣ, у большого камина. Было тепло, весело пылалъ каминъ. Я что-то напѣвалъ ей. Она такъ и уснула у меня на груди…
Онъ вздохнулъ и сказалъ:
— Все это описано и воспѣто уже въ Карменъ. Чудный гимнъ свободной любви... не любви даже, а порыва... Хорошая вещь порывъ! А можетъ быть, и скотство? А? Во всякомъ случаѣ не въ минуту порыва — скотство, иначе, кто желалъ бы чувствовать себя скотомъ?
Онъ бросилъ это вскользь самому себѣ, наивно по-дѣтски и продолжалъ:
— На другой день утромъ мы вмѣстѣ и до Москвы доѣхали; рискуя, до самой Москвы съ ней въ отдѣльномъ купэ.
...Мало того, она проводила меня на Николаевскій вокзалъ, и мы съ ней на прощанье цѣловались, какъ самые настоящіе мужъ и жена... Она крестила меня, а я съ тѣмъ чувствомъ, съ какимъ цѣлуютъ руку у жены, цѣловалъ ее. Мы были, вѣроятно, красивая пара и мнѣ пришла мысль о потомствѣ.
— Я хотѣлъ бы, чтобъ у насъ были дѣти... — шепнулъ я ей.
— Богъ съ тобой, что ты говоришь! — быстро отвѣтила она, вспыхнувъ.
Я наклонился къ ней и нѣжно, упрямо повторялъ.
— Я былъ бы очень радъ...
— Останься!
И остался еще на день. На другой день я уѣхалъ, и она опять провожала меня. Насъ, конечно могли увидать, узнать, но въ этомъ была вся прелесть, и случись въ это время жена, кто знаетъ, чѣмъ бы еще все это кончилось...
Послѣдній звонокъ... Она быстро, судорожно цѣлуетъ и дрожитъ.
— Слушай, дорогой... Ты любишь свою жену, и Боже сохрани разбивать ваше счастье... Но если... если еще одинъ день вырвется у тебя свободный... одинъ только... Ты помнишь адресъ?
Она повторяла, я слушалъ съ твердымъ рѣшеніемъ никогда больше съ ней не встрѣчаться, боялся не на шутку привязаться.
Вагонъ уже тронулся, а она все крестила меня... Можетъ быть, это было немного слишкомъ. Она уже опять отрывалась, уже дѣлалась чужой для меня, какой-то картинкой, которой, я, уже какъ постороннiй, въ послѣднія мгновенія любовался, какъ любуются исчезающимъ пейзажемъ, закатомъ... Другой не замедлитъ занять мое мѣсто... Я только теперь замѣтилъ, что совсѣмъ не разспрашивалъ ее о ея прежней жизни, откуда она, кто она? Богъ съ ней, не все ли равно? Впрочемъ, это равнодушiе было больше кажущимся. Когда потомъ, войдя въ вагонъ, я почувствовалъ, что я одинъ и ея уже нѣтъ, мнѣ стало скучно. Когда, задумчивый, я смотрѣлъ въ окно, любуясь нѣжнымъ весеннимъ закатомъ, я почувствовалъ что далеко не все равно: она или закатъ. Мысль о ней заполнила этотъ закатъ, и закатъ безъ нея пустотой и тоской сжималъ мое сердце.
На другой день я пріѣхалъ въ Петербургъ. Дѣла чиновника, дѣла семьянина, родственника, стараго знакомаго и вся, связанная со всѣмъ этимъ, житейская суета, съ нарисованной дѣловитостью, съ нарисованной радостью, съ нарисованной вовсе не той жизнью, которой, въ сущности, каждый изъ насъ живетъ или хотѣлъ бы жить. И легче всего при такихъ условіяхъ живется за картами или въ отдѣльныхъ кабинетахъ. На чистоту, но двѣ недѣли такой жизни, и опять сытъ по горло, и даже провинціальнаго служащаго нѣтъ-нѣтъ да и потянетъ назадъ... И всѣ двѣ недѣли что-то точно вдругъ встрепенется радостно въ груди: да, да, тамъ, въ Москвѣ, она… и страшно съ другой стороны... нѣтъ, лучше ужъ перебить впечатлѣніе — къ Альфосинѣ ѣздилъ... Но, кончивъ дѣла, пріѣхавъ въ Москву, прямо къ ней поѣхалъ.
Я пріѣхалъ неожиданно. Она сидѣла за столомъ и сосредоточенно перебирала карты: вѣроятно гадала или пасьянсъ раскладывала. Я потомъ узналъ, откуда эта наклонность у нея — у утокъ яйца щупать, Богу молиться, пасьянсъ раскладывать. — Она была изъ домовитой купеческой семьи... — и надо было видѣть ея радость при моемъ появленіи. Она всплеснула руками, вскрикнула «милый» и стремительно бросилась изъ-за стола ко мнѣ. Волосы ея разлетѣлись, она цѣловала меня, смотрѣла въ глаза и опять цѣловала. Конечно, такъ нельзя обманывать... И если она любила, то и я любилъ... на день, на два... не больше… Куда же больше? Тамъ жена, дѣти... Я тутъ же высказалъ ей свое мнѣнiе.
— Боже мой, да, конечно... но два дня, два... ты уже сказалъ, мои? Цѣлыхъ два дня! И даже три...
Мы ѣздили по садамъ, обѣдали, ужинали завтракали, всегда выбирая что-нибудь особенное, оригинальное И всегда она говорила огорченно:
— Милый, это дорого...
Я смѣялся и дѣлалъ нарочно все особенно дорого. И накупилъ ей разныхъ духовъ, разныхъ мелочей дамскаго туалета, и она постоянно, когда я привозилъ, говорила:
— Ну, зачѣмъ это?
Но это такъ говорилось мило, такая радость вслѣдъ за этимъ сверкала въ ея глазахъ, что я еще привозилъ. Вечера мы проводили за городомъ, слушали оперетку, цыганъ.
Я возвратился домой. Сперва щемило, а потомъ прошло, совсѣмъ даже прошло.
Какъ-то въ судѣ является ко мнѣ швейцаръ гостиницы и съ таинственной физіономіей докладываетъ, что какая-то дама проситъ меня пожаловать. Какъ-никакъ, лицо я въ губерніи не послѣднее, — кто, какая дама можетъ меня, отца семейства, такъ безцеремонно требовать? Ѣду. Она!
Вѣроятно, я былъ достаточно огорченъ, потому что она растерянно и испуганно увлекая меня въ свой номеръ твердила:
— Милый, прости, прости… не могла... на одинъ часъ... прости...
Она дрожала, какъ въ лихорадкѣ. Какъ ни жаль было, но благоразуміе требовало того, чтобъ осадить ее.
— Вы не имѣли права такъ поступать, я откровенно вамъ говорю, что я люблю свою жену, что дѣлаю въ сущности совершенно незаконную вещь… тамъ, гдѣ-то, это, можетъ быть, не чувствовалось, но здѣсь, въ одномъ городѣ съ моей женой... Вы хотите, чтобъ это почувствовалось? Наконецъ, это провинція, каждый шагъ, каждое слово будетъ извѣстны всѣмъ сегодня же...
— Милый, Боже сохрани… Милый, прости… — только и повторяла она безсознательно, то хватая, то бросая мои руки. — Ради Бога, не сердись! Ради Бога, прости... Я сейчасъ же уѣду...
— Да, это необходимо и здѣсь ничего не можетъ быть… Здѣсь, въ одномъ городѣ съ моей женой, все это… только...
— Я уѣду, уѣду... — съ ужасомъ твердила она и начала складывать, торопясь и путаясь, свои вещи.
— Куда же вы уѣдете, — раздраженно спросилъ я, — когда поѣздъ уже ушелъ и новый только завтра пойдетъ?..
Она растерянно присѣла, сложила руки и потомъ быстро проговорила!
— Я поѣду на почтовыхъ...
— Глупости, — отвѣтилъ я.
— Но что же дѣлать?
— Не надо было пріѣзжать.
Она была такая виноватая, при всей своей энергiи, такая, въ сущности, забитая… и такая прекрасная, чисто-русская красавица, которая уже успѣла опять охватить меня и собой и всѣмъ прошлымъ... что я не могъ дальше противиться и уже страстно цѣловалъ ее.
Она точно не понимала еще, что я дѣлаю, позволяла себя цѣловать и разсѣянно твердила:
— Не надо, не надо... Здѣсь твоя жена...
И все это кончилось страстнымъ объясненіемъ въ любви, слезами и проведеннымъ вмѣстѣ еще однимъ вечеромъ.
Въ сущности, она пріѣхала совѣтоваться, что ей дѣлать: она была беременна... Виновникъ былъ я, конечно. Чтобъ понять весь ужасъ ея положенія, надо знать ея прошлое, которое она разсказала мнѣ въ этотъ пріѣздъ свой. Она росла въ купеческой семьѣ, и пока жилъ отецъ, можно было жить: у нихъ была лавка, домъ. Она ходила въ гимназію, а въ свободное время вела конторскія книги, торговала за отца въ лавкѣ. Отецъ былъ добрый, но самодуръ и совершенно необразованный человѣкъ. Жену билъ въ сердцахъ, въ сердцахъ и ее за вихры диралъ. Онъ все толстѣлъ, пока однажды его не хватилъ ударъ, затѣмъ второй и третій съ смертельнымъ исходомъ. Лавку пришлось закрыть, потому что мать, забитая и простая женщина ничего не могла. Оставался только домъ, и жили онѣ — мать и двѣ дочери — тѣмъ только, что сдавали квартиру. Квартиру эту нанималъ чиновникъ; онъ сошелся съ матерью, и такъ продолжалось, пока Паша, моя спутница, не выросла. Тогда чиновникъ влюбился въ нее. Изъ страха потерять единственнаго кормильца, мать настояла, чтобы дочь шла за него замужъ… Замѣтьте, съ университетскимъ образованіемъ господинъ! Та, конечно, не знала о его связи съ матерью, но ей нравился какой-то молоденькій, очевидно дрянной, какъ увидите, инженеръ. Для всѣхъ онъ былъ дрянной, но для нея, конечно, олицетвореніемъ всего, что только было лучшаго на землѣ. Его встрѣчала она у своихъ подругъ и, когда видѣла его задумчивымъ, то готова была плакать, умирать и любить безъ памяти...
Но мать настаивала, настаивалъ женихъ, и Паша то соглашалась, то отказывалась. Наконецъ, согласилась, но съ условіемъ, чтобы шаферомъ былъ инженеръ. Наканунѣ свадьбы, въ домѣ подруги, она отдалась своему шаферу… На свадьбѣ собиралась въ церкви падать въ обморокъ, но шаферъ-инженеръ шепталъ ей:
— Будьте мужественны!
И въ сознаніи какой-то жертвы — бодрилась: онъ понималъ ее!
Потомъ былъ вечеръ, танцовали, кричали «горько», она цѣловалась, — не все ли равно съ кѣмъ: въ душѣ она съ нимъ цѣловалась.
Подруги заботились, чтобы она не выдала себя, шаферъ былъ нѣженъ, страданіе облекалось въ такую красивую форму. Играла музыка, кружились пары, опять кричали «горько». Въ зеркалахъ она видѣла себя нарядную, красивую, безъ кровинки въ лицѣ, къ чему-то очень страшному приговоренную.
Насталъ и конецъ вечера. Гости разъѣхались, а когда она осталась лицомъ къ лицу съ ужасной дѣйствительностью, на нее напалъ дикій страхъ и она убѣжала къ матери въ спальню.
Мать тащила ее къ жениху, женихъ помогалъ...
Боже мой, вѣдь это, знаете, чортъ знаетъ что за жизнь на одной струнѣ, тамъ, въ этихъ городкахъ... и при этомъ желѣзная зависимость отъ этого, одурманеннаго копотью и чадомъ этой жизни, общества, которое, замѣтьте, и не хочетъ, вѣдь, ничего другого... Съ пѣной у рта отстаиваетъ весь этотъ омутъ жизни.
Изъ святыни брака устроили ужасы и пытки, съ которыми не сравнится никакое рабство, никакіе ужасы инквизиціи. Во имя самаго святого лозунга, подъ прикрытіемъ его, творится то, что въ самыя ужасныя времена крѣпостничества не дѣлалось...
Тѣ, которыхъ обманываетъ идея святости, пусть вдумаются хоть въ тѣ факты, которые всплываютъ на судахъ. Уничтоженіемъ выходовъ создаются только преступленiя, безполезно уничтожая идею. Закройте всѣ воспительные дома, — и ретирады опять наполнятся задушенными младенцами... будутъ рѣзать, бить, отравлять другъ друга до тѣхъ поръ, пока будетъ существовать понятіе о собственности въ людскихъ отношеніяхъ... Здѣсь полный просторъ только негодяямъ, самодурамъ, дикарямъ... И тѣмъ крѣпче только приковываются они къ ихъ негодяйству, дикости, самодурству поощреніемъ ихъ рабскихъ идей…
Негодяй, конечно, закричитъ: какъ! онъ противъ брака!..
Ложь, наглая ложь: я противъ насилія, противъ уничтоженiя самаго святого человѣческаго учрежденiя. И пора, давно пора, всѣмъ порядочнымъ, всѣмъ любящимъ свою родину ударить въ набатъ, раскрыть себѣ и другимъ глаза на гнойныя язвы.
Безъ свободной женщины — мы вѣчные рабы, подлые, гнусные рабы, со всѣми пороками рабовъ:
Я не вытерпѣлъ и, прокашлявшись, бросилъ:
— Кто проповѣдуетъ?
— Самый подлый изъ всѣхъ рабовъ, конечно, — отвѣтилъ невозмутимо Черноцкій и продолжалъ спокойно:
— Вы понимаете, онъ и послѣ свадьбы не прекращалъ сношенiй съ ея матерью. Заставъ ихъ на мѣстѣ преступленiя, она убѣжала къ инженеру. Черезъ нѣсколько дней полиція возвратила ее, а инженера судили, приговорили къ тюрьмѣ. Она отравлялась, искала смерти — въ одной рубахѣ бѣгала по снѣгу, — нажила порокъ сердца, но покорилась… Мать отъ холеры или яда умерла? Когда у нея роднился ребенокъ, мужъ сосчиталъ, что ребенокъ отъ инженера, и такой адъ ей устроилъ, что она и себя и ребенка морозила: ребенокъ умеръ, и на этомъ помирились.
Начальникъ мужа сталъ за ней ухаживать, мужъ требовалъ, чтобъ она была внимательна… Второй ребенокъ родился отъ начальника… Мужъ былъ скупъ, считалъ каждую копейку, отъ жалованья въ двѣ тысячи откладывалъ одну тысячу рублей въ годъ и пилилъ ее безъ перерыва, что она не хозяйка, не бережетъ его денегъ. Тутъ подвернулся какой-то предводитель дворянства, изможденный, истощенный но бодрый... Оказалъ какое-то участіе, обратилъ вниманіе, — она схватилась за него, какъ утопающій за соломинку.
Мужъ, смотрѣвшій на связь съ начальникомъ сквозь пальцы, запротестовалъ здѣсь. Тогда она уѣхала къ тому предводителю, въ деревню… Новое несчастье: тотъ оказался въ сущности человѣкомъ настолько истощеннымъ, что ни къ какой семейной жизни не годился. Она мирилась и съ этимъ, но его самолюбіе страдало... Сперва онъ ѣздилъ лѣчиться, а затѣмъ, возвратившись такимъ же безсильнымъ, кончилъ тѣмъ, что возненавидѣлъ ее. Да и родные его возстали, и пришлось ей бросить его домъ.
Мѣсто ея у мужа было уже занято: онъ взялъ какую-то особу прямо съ улицы... Ей и было поручено воспитаніе ребенка.
Жена умоляла хоть ребенка отдать ей — замѣтьте, не его ребенка. Не далъ. Она уѣхала, и тогда вотъ и произошла наша первая встрѣча. Она хотѣла тогда же пуститься во всѣ тяжкія... И начала съ меня. Эта встрѣча со мной измѣнила ея намѣренія… Въ сущности, въ томъ, что она, можетъ быть, привязалась ко мнѣ, вы понимаете, еще ничего нѣтъ удивительнаго... Послѣ столькихъ гадостей... свинства... и я, конечно, могъ показаться ей… а?.. что? Понимаете?...
— Понимаю, конечно...
— Да, такъ вотъ, какая, въ сущности, бездна вдругъ открылась предъ моими глазами... Надъ этой бездной витаемъ она и я, только я держу ее… а? Никого больше… Вы понимаете? Я не могъ же сказать ей: иди вонъ! При всей, можетъ быть, негодности своей натуришки не могъ… Наконецъ, матеріальный вопросъ... Презрѣнный металлъ, — когда онъ есть, но пока нѣтъ его — въ немъ все, а она въ такомъ уже и была положенiи... Ну-съ и вышло изъ всего этого то, что она поселилась въ Москвѣ, а я отъ поры до времени переписывался съ ней, посылалъ денегъ, строго-на-строго запретилъ ей, конечно, навѣщать меня… Въ этомъ періодѣ я еще разъ видался проѣздомъ съ ней, но наотрѣзъ отказался отъ всякихъ супружескихъ отношеній. Можетъ быть, я уже остылъ, можетъ быть, хотѣлось, чтобъ хоть теперь это было порядочнѣе... не знаю...
Она родила дѣвочку… Письмо объ этомъ по роковой случайности попало въ руки жены, и все такимъ образомъ сразу раскрылось.
Ну, конечно, ахи, охи, жизнь разбита: слезы, страданье... настоящія, можетъ быть! Вы замѣчаете, я и не думаю что-нибудь подчеркивать, скрывать, оправдывать себя; вся грязь, гадость, какъ видите, на-лицо… а? что?.. Выросла въ извѣстныхъ идеалахъ, вѣрила въ меня, какъ въ бога, и вдругъ не богъ, а дрянь, негодяй, развратникъ, съ точки зрѣнія того идеала... Вѣдь, такъ? Жизнь разбита? Нуженъ богъ, у всѣхъ богъ, въ романахъ богъ, у нея только не богъ, а надо молиться, приходится молиться чортъ знаетъ на кого… а?.. ужасно? Я васъ спрашиваю, чѣмъ она виновата... а? понимаете? Какой выходъ? Злая такъ или этакъ, но какъ-нибудь распорядилась бы: себѣ горло, ему ли; но вѣдь бодрый человѣкъ, хорошій, прекрасный — ему-то что дѣлать? При всѣхъ страданiяхъ надо пожалѣть другого, простить.
А куда дѣть чувство гадливости, презрѣнія, оскорбленiя?..
Все побороть такъ, чтобы и не догадался никто. А?.. А рядомъ съ этимъ: когда же это именно случилось? гдѣ? при какихъ обстоятельствахъ?
Пачкается въ грязи, допрашиваетъ, бередитъ себя, меня... И вѣдь докапалась: срокъ вышелъ не девятимѣсячный, видите ли? Запутала и меня, думаю себѣ: то, что со мной случилось, могло случиться у ней и съ дрѵгимъ… Короче, величайшую подлость въ жизни далъ продѣлать женѣ... Замѣтьте, идеальной чистоты человѣкъ.
Черноцкій вздохнулъ, помолчалъ и проговорилъ:
— Да-съ... Пишетъ ей письмо жена, деликатно, осторожно выражаетъ свое сочувствiе, не судитъ, но указываетъ на факты и умоляетъ ради серьезности вопроса написать откровенно, кто отецъ ребенка. Ахъ!.. Вотъ, отчего болитъ душа. Вы чувствуете, что болитъ, а зачѣмъ мнѣ ломаться передъ вами?
— Что она отвѣтила? — спросилъ я сурово.
— Она отвѣтила, что дѣйствительно я отецъ... а? что? Можетъ быть, я клевещу на свою жену? Можетъ быть, она и должна такъ поступить? А? Пожалуйста, говорите откровенно Что?
Черноцкій долго молчалъ, и я спросилъ его:
— Видались вы потомъ съ ней?
Черноцкій не сразу отвѣтилъ:
— Нечаянно... Если я когда-нибудь и жалѣлъ, что я не художникъ... этого невозможно передать, но вотъ разрѣжьте и все тутъ. И умирать буду — это одно только буду помнить: квинтъ-эссенція всей жизни... Ахъ, ничего нѣтъ ужаснѣе человѣка бездарнаго — чувствовать все, понимать все и не быть въ состояніи этого выразить! Ѣду по Москвѣ на извозчикѣ... Идетъ дама, и рядомъ съ ней нянька несетъ ребенка Она, вѣроятно, устала, не могла больше нести и временно несла нянька, но въ этотъ моментъ она почувствовала опять силы и съ движеніемъ безконечной любви, безконечнаго счастья, точно вся жизнь ея однѣ сплошныя розы, она повертывается и беретъ ребенка отъ няньки... Нѣтъ, вы понимаете, сколько прошенья, красоты сколько непередаваемой… Вѣдь это небо открылось, это сонъ изъ другой жизни... Это Маргарита, Гретхенъ... вся боль души...
Голубчикъ, это развѣ можно выразить? Это была она. Я бросился, не помню, что я дѣлалъ… я цѣловалъ ея руки, лицо ребенка… а? что? Она похудѣла… Лицо, какъ вамъ сказать, прозрачное… а? Глаза, какъ звѣзды… Смотритъ, счастье въ лицѣ... Это, это... А! Отчего не могу плакать? Ахъ, подите же вы съ вашими прописями, моралями… Ну, что-что все это въ сравненіи съ тѣмъ, что называется жизнь? Жизнь не прописная, не по указкамъ, а такъ, какъ она идетъ въ жизни? а? что?
— Ну? И дальше?
— Дальше ничего... ничего! Что жъ дальше? Жена, дѣти, чѣмъ они виноваты? Мы поклялись пять лѣтъ не видаться... чтобъ прошло все у насъ... Но прошелъ годъ... Я опять въ Москвѣ... Хоть и далъ слово не видѣться, опять потянуло. Адресъ забылъ… Вертится домъ, въ головѣ, — не могу вспомнить… Остался лишній день, въ адресный столъ послалъ... Пять адресовъ принесли, всѣ объѣздилъ — не она. Не могу вспомнить дома… Вѣдь это Москва — семь милліоновъ закоулковъ... развѣ смотришь, куда идешь? Пробовалъ и такъ ѣхать: скажешь извозчику: «пошелъ прямо, куда хочешь». Насчастье и смотрю: дома не узнаю ли? Уѣхалъ въ Петербургъ, пробылъ недѣлю, возвратился… Опять остановился въ Москвѣ... Такъ тянуло къ ней... Ѣздилъ... ѣздилъ... вечеръ пришелъ... Вечеромъ что дѣлать? Лѣто… Поѣхалъ куда-то въ загородный садъ... Вдругъ… Это удивительно странно, изъ пустоты головной выдавилъ эту фамилію домовладѣльца... Такъ на мертвый берегъ точно выплеснуло, на, теперь, дескать, подавись?..
Конечно, туда... Тотъ домъ и та лѣстница; бѣгу, а сердце стучитъ: люблю, люблю!
Вотъ дверь, еще мгновеніе за этой дверью... за этой дверью уже стояла смерть!
— Что?
— Она умерла... недѣлю тому назадъ отъ болѣзни сердца... И все ждала меня, говорила: «онъ здѣсь, здѣсь!.. сейчасъ же, какъ придетъ, приведите ко мнѣ»… Я стоялъ, слушалъ. Она немного получила отъ жизни... Я смотрѣлъ на эту страшную теперь растворенную дверь и мнѣ казалось, что съ той стороны двери, тамъ, изъ темноты, она смотрѣла на меня изъ-за могилы, слушала мои мысли, такая же покорная и такъ боящаяся кого-нибудь обезпокоить… Сестра двоюродная была при ней и ребенка взяла съ собой. Куда? Не знаю.
Вы понимаете состоянiе, когда по привычкѣ, что ли, думаешь черпнуть всей той же живящей влаги и пьешь уже какую-то дрянь смерти? А? Что? Думаешь обнять жизнь и обнимаешь смерть. А?
Для меня она живетъ. Она здѣсь, я слышу шаги ея наверху въ рубкѣ... Она въ то же время размѣнялась на милліоны мелочей...
Она въ пѣснѣ, во вздохѣ... ея походка, волосы... Она живетъ со мной... возлѣ меня. Меня тянетъ къ этимъ падшимъ, тамъ я сильнѣе ее чувствую… эту боль поруганнаго, затоптаннаго человѣка.
Я больной человѣкъ, маньякъ, въ сущности, мертвецъ. И я только не хочу, чтобъ та, сегодняшняя, услышала вдругъ вмѣсто кастаньета звуки моего скелета… а? Что?
Эти «а» и «что» звучали теперь, какъ клавиши стараго разбитаго фортепiано.
Онъ замолчалъ.
Невыразимо тяжелое чувство охватило меня и не хотѣлось говорить.
— Ну, что жъ, будемъ спать, спокойной ночи, — смущенно проговорилъ онъ.
— Спокойной ночи, — отвѣтилъ я.
Я не помню, какъ заснулъ. На другой день, когда я проснулся, ни Черноцкаго, ни вещей его не было въ каютѣ.
Я заглянулъ въ окно — мутныя струйки рѣки куда-то озабоченно бѣжали, двигался берегъ, ниткой ровной шелъ дождь.
Скучно...
_______
[1] Искушеніе Святаго Антонія (фр.) – драматическая поэма въ прозѣ (часто называемая романомъ) французскаго писателя Гюстава Флобера, опубликованная въ 1874 году. Флоберъ провелъ всю свою сознательную жизнь, урывками работая надъ книгой. – Въ исходномъ изданіи переводъ и поясненіе отсутствуютъ. – Примѣчаніе издателя.
[2] По преимуществу (франц.) – Въ исходномъ изданіи переводъ отсутствуетъ. – Примѣчаніе издателя.
Загрузить текстъ произведенія въ форматѣ pdf: Загрузить безплатно
Наша книжная полка въ Интернетъ-магазинѣ ОЗОН,
въ Яндексъ-Маркетѣ, а также въ Мега-Маркетѣ (здѣсь и здѣсь).