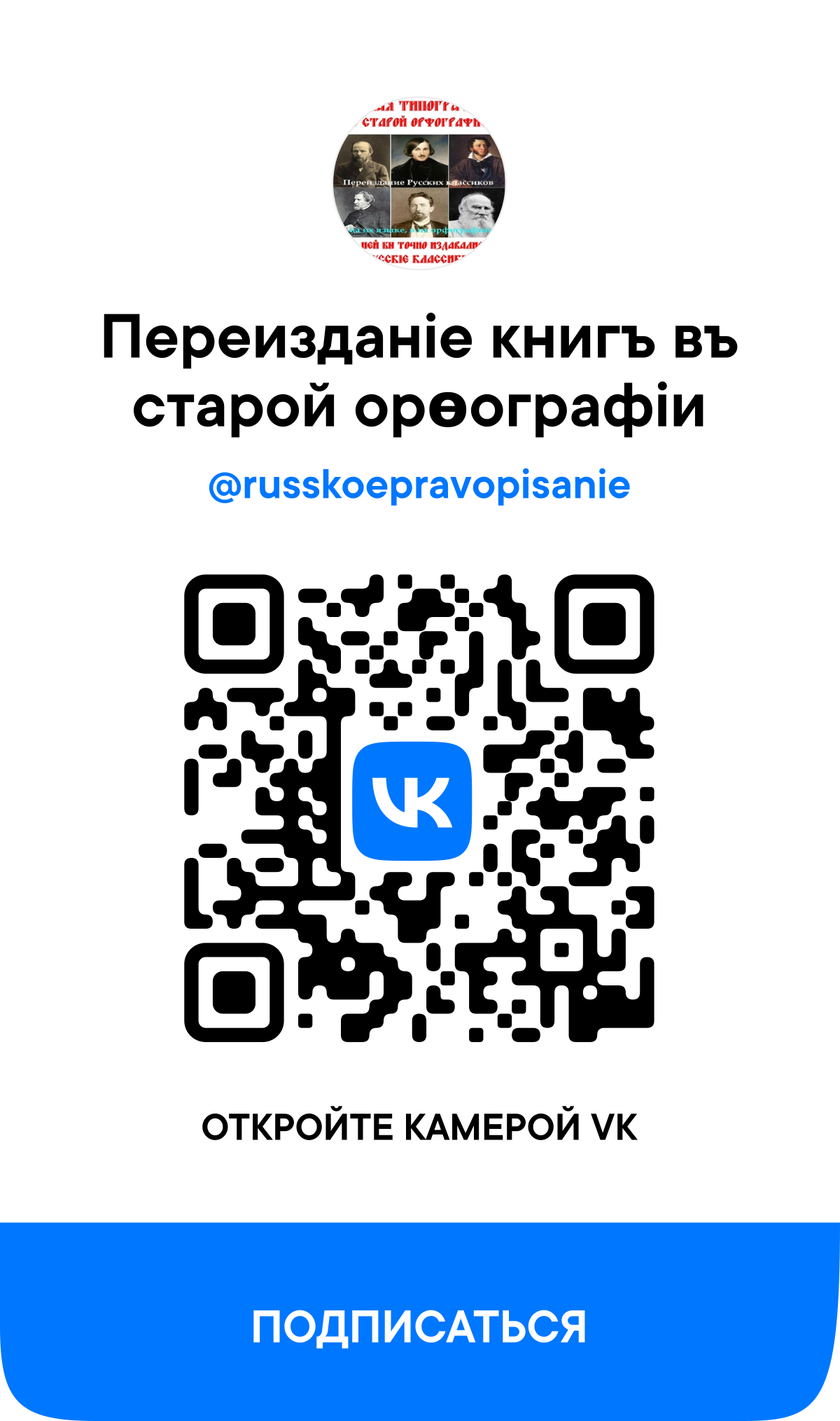ФАНТАЗIИ
РАЗСКАЗЫ I. ЯСИНСКАГО
С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія Спб. Т-ва «Трудъ». Фонтанка, 86
НАДЪ ТАВРИЧЕСКИМЪ ДВОРЦОМЪ.
— Государыня матушка, летимъ! Мы довольно съ тобой отдыхали въ междупланетныхъ пространствахъ. На Руси творится что-то неладное, и самъ я своимъ умомъ разобрать не могу, что именно. A у тебя прѣсвѣтлый разумъ, и хотя сердце мое состоитъ изъ эфирныхъ и почти невѣсомыхъ частицъ, но зато и чувствительность его во много разъ тоньше, чѣмъ было тогда, когда мы съ тобою, Алексѣевна, вкушали радости земной жизни. Болитъ оно и томится тягостными предчувствіями. Летимъ, царица.
Такъ говорилъ Потемкинъ-Таврическій, протягивая руку Екатеринѣ Алексѣевнѣ.
— Холодненько сегодня, — сказала царица: — съ нѣкоторыхъ поръ въ междупланетныхъ пространствахъ стали дуть сквозняки. Быть можетъ, и на землю вліяютъ перемѣны, происходящiя въ высшихъ небесныхъ сферахъ. Что-то очень много пятенъ появилось на солнечномъ дискѣ. А это не къ добру. Помнишь, Григорій Александровичъ, въ пугачевщину, какъ много было пятенъ на солнцѣ? И земная оболочка такъ была насыщена электричествомъ, что всѣ люди прониклись имъ, и изъ моихъ волосъ, когда я, бывало, встряхну ими, сыпались огненныя искры, какъ дождь золотыхъ монетъ, или каскадъ брилліантовъ. И еще, когда казнили короля Лудовика и бушевала французская революція, тоже много было пятенъ на солнцѣ. Не только въ Россіи, но и во всемъ мірѣ, по моему, предстоятъ великія перемѣны!
— Матушка царица, хотя ты и иностранка была родомъ, но душа у тебя русская, — сказалъ Потемкинъ. — Неужели ты нонеча сама стала холодной и равнодушна къ твоей великой второй родинѣ? Неужто же не щемитъ и твое сердце? Загляни въ его глубину и сознайся, развѣ ты не чувствуешь особой въ немъ тоски, столь несвойственной блаженнымъ и полублаженнымъ духамъ?
Царица улыбнулась.
— Большаго блаженства, какое мы испытывали съ тобою въ Петроградѣ, когда счастливо текла жизнь въ стѣнахъ Таврическаго дворца, уже не можетъ повториться. Мы поневолѣ должны насладиться только воспоминанiями, и посему мы состоимъ въ рангѣ полублаженныхъ.
— Мы все-таки связаны съ землею, — со вздохомъ произнесъ Потемкинъ; — и признаюсь тебѣ, Алексѣевна, что страстно мнѣ иногда хочется послушать прекрасныхъ русскихъ заунывныхъ пѣсенъ, и я не прочь былъ бы съѣсть иногда горькой-прегорькой рѣдьки съ конопляннымъ масломъ и крупной солью…
— Григорій Александровичъ, — промолвила царица: — полагаю, ты и еще о многомъ не можешь забыть. Но не думай, что я не столь чувствительна, какъ ты. Всѣ помыслы мои посвящены Россіи. Петръ Великій былъ варваръ, а Екатерина Вторая открыла собою циклъ просвѣщенныхъ русскихъ государей. Есть Промыселъ, Григорій Александровичъ, и онъ ведетъ человѣчество по неисповѣдимымъ путямъ. Управляетъ-ли онъ людьми и ихъ дѣяніями черезъ солнечныя пятна, или другими средствами — это не есть важно, но — когда созрѣваетъ человѣчество отъ дѣйствія внутреннихъ и внѣшнихъ причинъ, ничѣмъ уже нельзя измѣнить порядокъ вещей. Цари безсильны передъ Промысломъ. А Промыслу угодно было, точно также мнѣ первой, открыть, что Россія станетъ великой, богатой и могущественной только при народоправствѣ. И того ради я созвала депутатовъ со всѣхъ концовъ Россіи; и если бы помѣщики и духовенство, отъ котораго, ты знаешь, я такъ зависѣла, не уговорили меня отказаться отъ «безумія», не Англія стояла бы теперь во главѣ міровой политики, а Россія!
— Матушка государыня, — задумчиво сказалъ Потемкинъ: — народъ еще не былъ готовъ.
— Слишкомъ большую волю тогда взяли мои генералы и вельможи, — строго замѣтила Екатерина: — и напугали меня, и самой мнѣ страшно стало. А громъ славныхъ воинскихъ дѣлъ затуманилъ мой разумъ и ожесточилъ сердце. Ты говоришь: «не готовъ»; но развѣ трудно рабу сдѣлаться свободнымъ гражданиномъ. Если, на моихъ глазахъ, простые казаки обращались въ утонченныхъ и обворожительно-свѣтскихъ графовъ, то развѣ можно обвинять русскiй народъ въ неготовности къ политической свободѣ и къ имущественной справедливости?
...Превращеніе то гораздо легчайшее... Теперь я вижу что ошибалась: неготовъ былъ не народъ, а неготово было дворянство... Да оно еще и до сихъ поръ не вполнѣ созрѣло на Руси. Силы небесныя должны вмѣшаться, чтобы положить конецъ тому, что творится на Руси, раздираемой двумя началами: властолюбіемъ и свободолюбіемъ. Не на животъ, а на смерть борются обѣ стихіи, и ужасные стоны доносятся до нашихъ высотъ изъ русскихъ городовъ и деревень… запахъ крови я слышу...
— Алексѣевна, прекрасная моя, ты меня такъ взволновала, какъ нѣкогда, когда бывало спорилъ съ тобою, а ты, выслушавъ меня спокойно и убѣдительно, какъ Минерва, богиня мудрости, возьмешь и внезапу провѣщаешь свою волю... Тѣмъ паче разрослось у меня желаніе увидѣть родныя мѣста. Духи изъ неспокойныхъ, шныряющіе во всѣхъ направленіяхъ, и мѣжду прочимъ кнутобоецъ Шешковскій, неоднократно сообщали мнѣ, что многихъ городовъ, основанныхъ мною, нельзя узнать. Въ Екатеринославѣ многократно вспыхивала революція... Шешковскій все также наивенъ… На-дняхъ онъ ломился къ тебѣ съ докладомъ, что въ Таврическомъ дворцѣ собрались депутаты, распущенные тобою. И спрашивалъ, какъ съ ними быть? У старика все перепуталось въ головѣ…
— Ахъ, Григорій Александровичъ, — воскликнула Екатерина: — чрезвычайно обрадовалась я, когда мысль моя, наконецъ, въ болѣе совершенномъ видѣ была приведена въ исполненіе... Конечно — подумала я: — г-жа Простакова и помѣщики Скотинины вознегодуютъ, но все же не истребилось зерно, посѣянное мною на Руси, и проросло, и уже шумятъ золотыя нивы народной свободы, и чудеснымъ образомъ имя мое и твое, Григорій Александровичъ, вплетено въ вѣнецъ новой русской славы. А вѣдь сѣяла я въ жестокій вѣкъ, въ страшное и мрачное время. Но каково горе мое было, когда опять опустѣлъ Таврическій дворецъ, и пугачевщина пошла стѣною на шешковщину.
— А я самоличною персоною тутъ и есть! — воскликнулъ Шешковскій, появляясь изъ-за облака съ подобострастно осклабленнымъ лицомъ и попрежнему опоясанный серебрянымъ шарфомъ въ черныхъ полоскахъ.
— Не во время, сударь, пришелъ, — брезгливо сказалъ Потемкинъ.
— До чего я дожилъ, — вскричалъ Шешковскій: — Господи Іисусе, Господи Іисусе! Къ моимъ благодѣтелямъ и милостивцамъ не во время сталъ являться! Что такъ, чѣмъ не угодилъ вашей свѣтлости и тебѣ, благовѣрная государыня?
— Все такой же, и смерть его не измѣнила: — проговорила Екатерина, съ благосклонною улыбкою: — ну, что скажешь? Докладывай скорѣе, потому что мы съ Григоріемъ Александровичемъ собрались летѣть въ Санктпетербургъ и взглянуть на нашъ земной пріютъ; и кстати познакомиться лично съ положеніемъ дѣлъ въ Россіи.
Шешковскій замахалъ обѣими руками.
— Упаси васъ Боже, всемилостивѣйшая благодѣтельница моя и благодѣтель! — закричалъ Шешковскій: — въ эту ночь, со второго марта на третье, летѣть въ Россію!
— Эмиграція изъ-за облачныхъ сферъ не воспрещается небесными законами, — величественно произнесла Екатерина.
— Господи Іисусе, Господи Іисусе, я не къ тому говорю. Для царей законъ не писанъ. Кто можетъ воспретить тебѣ, матушка? Какіе тамъ небесные законы? Ужъ если я говорю, что нельзя, то имѣю на то большія основанія. Представь себѣ, матушка Екатерина Алексѣевна, депутатишки, для которыхъ ты изволила, забавляючись, наказъ писать, живы и здоровы, и ужъ не въ Москвѣ съѣхались, а въ твоемъ собственномъ дворцѣ въ Санктпетербургѣ!
— У меня теперь собственности никакой нѣтъ, другъ мой, — сказала Екатерина: — не только блаженные, но и полублаженные въ собственности не нуждаются. Ихъ собственность — вселенная. Да и дворецъ былъ не мой, а Григорія Александровича.
— Ахъ, Господи Іисусе, Господи Іисусе, а Григорій Александровичъ чей?
— Рабья душа у тебя, Шешковскiй. Такъ нельзя, говоришь, — летѣть въ Санктпетербургъ?
— Нельзя! Депутатишки напоганили и дворецъ запакостили; все передѣлано, перенивѣчено. Замышляютъ депутатишки противъ твоего царскаго величества… Ограничить твое самодержавіе норовятъ, отъ дворянъ земли отнять и крестьянамъ передать! Уголовныя казни уничтожить. Кнутъ упразднить и застѣнокъ… Господи Іисусе, Господи Іисусе!
— Старикъ! Что бывшіе подданные мои за умъ и честь взялись, то весьма одобряю и хвалю… И хотя трудно Россіи отбросить старое и замѣнить его новымъ, ибо не сломленъ еще духъ твой, Шешковскiй; но интересуютъ меня порядки, которые теперь стали въ русскомъ царствѣ…
— Всемилостивейшая государыня, не порядки, а безпорядки стали; и если бы ты писанія нѣкоего борзописца Меньшикова знала, то сдѣлалось бы тебѣ ясно, какъ Божій день, что грозитъ русскому царству великая бѣда отъ революціоннаго бунта, который свилъ себѣ гнѣздо, именно, въ Таврическомъ дворцѣ.
— Шешковскій, ты готовъ кнутобойничать и за гробомъ; и если бы тебѣ силу дать, небось, ты притянулъ бы къ Іисусу всѣхъ народныхъ депутатовъ?
— Видитъ Богъ, притянулъ бы, — пріятно осклабившись, сказалъ Шешковскій.
— Есть такія твари, — промолвила Екатерина Потемкину по-французски: — которыя противятся всякимъ вліяніямъ времени и даже не поддаются магнетическому дѣйствію солнечныхъ пятенъ.
— Но онъ — цѣльная натура и преданная душа, — сказалъ Екатеринѣ Потемкинъ.
Екатерина же, обратившись къ Шешковскому, молвила:
— Довольно пугалъ ты меня въ оно время; а нынче я не очень то пужлива. Борьбою меня не устрашишь и, наоборотъ, зрѣлище проснувшагося народа для меня отрадно, потому что примиряетъ меня съ моимъ прошлымъ.
— Матушка, благовѣрная государыня Екатерина Алексѣевна, — молитвенно сцѣпивши руки, воскликнулъ Шешковскій: — ужъ тебѣ-ли, благодѣтельницѣ моей и матери отечества, оглядываться на молодчиковъ, которыхъ ты изволила приближать къ своей пресвѣтлой особѣ? Кто же послѣ этого безгрѣшенъ, если ты грѣшна?
Екатерина разсмѣялась.
— Я про одни грѣхи, а ты про другіе. А можетъ, тѣ грѣхи мои, о которыхъ ты намекнулъ, на самомъ дѣлѣ и не грѣхи. Если я любила, то любила. И наступитъ такой вѣкъ, когда не станутъ корить за любовь. Противный ищейка! Разскажи лучше, зачѣмъ ты на самомъ дѣлѣ пожаловалъ?
— Ей, преславная царица, повелительница моя! скажи слово — и въ преисподнюю низринусь, коли я тебѣ противенъ. А нѣтъ у меня другихъ намѣреній и не было, кромѣ какъ служить тебѣ вѣрою и правдою. И не даромъ я искусенъ читать даже въ сердцахъ царей. И какъ только согласилась ты съ его свѣтлостью посѣтить Санктпетербургъ, стало мнѣ тошно и стало мнѣ больно, какъ бы не произошло отъ того вреда твоей пресвѣтлой особѣ. Итакъ, докладываю тебѣ, какъ нелукавый рабъ твой, что если и посѣтишь столицу Петра Перваго, то не вздумай только побывать въ Таврическомъ дворцѣ, поелику готовится тамъ дивное и неслыханное дѣло.
— Намъ, полублаженнымъ, ничто не можетъ повредить, и мы физически освобождены отъ страданiй.
— А душевная тоска Господи Іисусе!
— Что же, и тоски хочу, — нетерпѣливо сказала Екатерина: — вотъ и Григорій Александровичъ соскучился по русской заунывности. Не мѣшай намъ, Шешковскій.
— Повинуюсь, пресвѣтлая. Но не могу утаить отъ тебя ни одного слова. Завтра, какъ соберутся депутаты и станутъ поносить царскихъ министровъ, — Шешковскій понизилъ голосъ и страшнымъ шопотомъ произнесъ: — рухнетъ потолокъ и раздавитъ все крамольное племя… Ой, сладко!.. Ой, радостно! Господи Іисусе, Господи Іисусе!
Вздрогнула Екатерина, выпрямилась и взглянула на Потемкина. И также вздрогнулъ Потемкинъ и посмотрѣлъ на Екатерину.
— Кто же это устроилъ?
— Я съ воришками разными и казенными татями, — захихикалъ Шешковскій: — держится потолокъ на волоскѣ. — Только дуну я на волосокъ — и загрохочетъ крамола, и ужаснется пугачевшина, вышерѣченный Меньшиковъ возглаголетъ въ восторгѣ: «нынѣ видѣста очи мои»... Господи Іисусе, Господи Іисусе!
— Алексѣевна, матушка царица, запрети злоумышлять на дворецъ нашъ! — строго сказалъ Потемкинъ.
— Не злоумышленіе! — Тутъ нѣтъ злоумышленія! — запѣлъ Шешковскій: — есть только нѣкое попущенiе!
И онъ сталъ разсказывать царицѣ и Потемкину исторію расхищенія Таврическаго дворца, его спѣшныя и небрежныя передѣлки.
— Позови Старова! — приказала Екатерина.
Шешковскій повернулся, и тотчасъ же явился Старовъ, держа въ рукѣ палку съ золотымъ набалдашникомъ, которую подарила ему Екатерина.
— Правда-ли, что Таврическому дворцу угрожаетъ такая опасность? — спросила она, допустивъ архитектора къ рукѣ.
— Видитъ Богъ, государыня, — началъ Старовъ: — строилъ я дворецъ честно и ничего не сберегъ для себя, а если на меня что Шешковскій наговорилъ, то воля твоя — пусть кнутобойничаетъ.
— Стыдно мнѣ слышать отъ тебя такія рѣчи, Старовъ, — упрекнула Екатерина: — брось и вслушайся, что я спрашиваю у тебя.
— Послѣ меня много было архитекторовъ, государыня, — заговорилъ Старовъ. — А всѣ фермы я укладывалъ прочныя — на пятьсотъ лѣтъ. Правда, архитекторъ Бруни, который состоитъ нынѣ въ живыхъ, напрасно не посовѣтовался со мною, потому что на девятьсотъ тысячъ слишкомъ рублей я бы указалъ ему, какъ поправить дворецъ. Развѣ же мы на такія суммы строили? Въ старину мы, государыня, строили на мѣдныя деньги золотыя сооруженія. Въ чемъ худа была старина, но не въ строительствѣ, и такихъ зодчихъ, какъ я, было немало. И всѣ они понимали, что отвѣтъ держать должны и предъ современниками, и предъ потомствомъ. Балки мои много лѣтъ гноили и не могли сгноить. А все приклейное можетъ отвалиться — не по моей винѣ, государыня.
— А какъ же поправить дѣло?
Старовъ развелъ руками.
— Чѣмъ скорѣе рухнетъ, тѣмъ лучше, государыня, тогда правда вся наружу выйдетъ
— Григорій Александровичъ, возьмемъ съ собой Старова, — сказала Екатерина — и такимъ властнымъ голосомъ, что Шешковскій почтительно посторонился; и, въ мгновеніе ока, исчезли изъ его глазъ Екатерина, Потемкинъ и Старовъ.
Уже разсвѣтало, когда они прилетѣли въ Таврическій дворецъ.
Екатерина прижалась къ рукѣ Потемкина и положила на его плечо свою голову.
Старовъ, по ея мановенію, быстро осмотрѣлъ всѣ передѣлки въ дворцѣ; когда же дошелъ до зала парламентскихъ засѣданій, то покачалъ головой и засвистелъ.
Дремавшему сторожу внизу за колонной показалось, что свищетъ вѣтеръ въ трубѣ; но это просвисталъ Старовъ.
— Ну, что, Старовъ? — спросила Екатерина.
— Подлинно, на волоскѣ держится потолокъ!
— А когда рухнетъ?
— Часовъ въ одиннадцать, въ двѣнадцать дня, когда соберется депутатская комиссiя.
— Она называется государственною думою, — поправила Екатерина.
— И много народу погибнетъ? — спросилъ Потемкинъ.
— Душъ триста погибнетъ, судя по числу мѣстъ, — сказалъ Старовъ.
Екатерина подозвала свободною рукою къ себѣ Старова и, улыбнувшись самою прекрасною улыбкою своею и ставши подобно утренней зарѣ, произнесла:
— Рвани за волосокъ, на которомъ виситъ гибель депутатовъ, и обрушь потолокъ сейчасъ же! Не медля!
— Всемилостивѣйшая, мудрая, добрѣйшая! — воскликнулъ умиленный Потемкинъ: — вѣдь, вотъ мнѣ же не пришло это въ голову!
Старовъ, опираясь на палку съ золотымъ набалдашникомъ, взбѣжалъ на потолокъ и нѣсколько разъ постучалъ. Разъ, два, три. Послышался шорохъ, точно сталъ сыпаться песокъ. Зашуршала и затрещала штукатурка. Съ страшнымъ трескомъ упала обшивка съ многопудовыми люстрами; и разбились и сокрушились въ щепы депутатскія кресла. Сотряслись стѣны Таврическаго дворца.
Въ то же время три тѣни поднялись надъ Петербургомъ. Онѣ были похожи на три облачка, изъ которыхъ одно было свѣтлѣе другихъ.
Потомъ онѣ растаяли въ туманныхъ небесахъ.
1907.
УХА.
Въ огромномъ бассейнѣ съ хрустальными стѣнками, вмазанными въ крѣпкіе, цементные столбы, играли, освѣщенныя электрическимъ солнцемъ, разнообразныя рыбы.
Этотъ рыбій народъ вовсе не былъ глупъ, какъ утверждаютъ люди, отказывающіе ему даже въ душѣ. У рыбьяго народа, несомнѣнно, была душа; и ужъ потому былъ умъ, что былъ мозгъ.
Мозгъ, съ позволенія сказать, похожій на соплю, но все же шевелящійся и озаряемый иногда быстрыми, какъ молнія, мыслями.
Рыбій народъ, на самомъ дѣлѣ, въ этомъ отношеніи мало даже чѣмъ отличается отъ людского племени. Какъ мы до сихъ поръ не рѣшили, что такое солнце, и почему оно свѣтитъ, и вообще равнодушны къ его природѣ — свѣтитъ солнце — ладно, а что такое солнце, почти все человѣчество къ этому вопросу равнодушно, — такъ точно и рыбы относились къ электрическому свѣту. Хорошо, пусть свѣтитъ, а что такое электричество, и изъ чего оно состоитъ, — рыбьему народу до этого дѣла не было.
Впрочемъ, вѣдь, и мы, кажется, хорошенько не вѣдаемъ, что такое электричество. Мы упираемся въ неизвѣстное съ такою же безнадежностью, какъ и рыбы. А съ другой стороны, хотѣлъ бы я знать, многіе-ли изъ насъ тоскуютъ изъ-за того, что не могутъ постигнуть природу электричества?
Правда, подобно тому, какъ среди людей жили и живутъ какіе-нибудь Джоны Гершели, изслѣдующiе солнце и, въ концѣ концовъ приходящiе къ нелѣпому заключенію, что на этомъ свѣтилѣ движутся громадныя чешуйчатыя существа, такъ и среди обитателей акваріума находились мудрыя и любопытныя рыбки, которыя во всѣ глаза смотрѣли на электрическую лампу по цѣлымъ часамъ, и мысли при этомъ у нихъ возникали тоже самыя нелѣпыя.
Остальныя рыбки предпочитали заниматься ближайшими явленіями.
Онѣ очень усердно омывали жабры водою и ждали хлѣбныхъ крошекъ, которыя имъ сыпала въ бассейнъ чья-то благодѣтьная десница.
Откуда эта десница и что она такое представляетъ собою, рыбій народъ опять-таки глубокими соображеніями на этотъ счетъ не задавался, какъ не задается пахарь думами о томъ, почему земля хлѣбъ родитъ, и чѣмъ объясняется, что бываютъ урожаи и неурожаи.
Сквозь стеклянныя стѣны рыбы видѣли туманныя тѣни, которыя ходили, вставали, садились и имѣли разнообразныя формы. Очень возможно, что тѣни эти принимались рыбами за нѣчто въ родѣ облаковъ и тучъ. Были тѣни, съ появленіемъ которыхъ въ акварiумѣ начинали плавать вкусныя бѣлыя крошки, и рыбы благоговѣйно смотрѣли на тѣни. Можетъ быть, онѣ молились на нихъ. Я не утверждаю этого, я только предполагаю. Почему человѣкъ захватилъ монополiю религiозности? Скорѣе онъ можетъ претендовать на монополію атеизма. Были также тѣни, приближенiе которыхъ нагоняло страхъ на рыбій народъ, потому что знаменовало собою исчезновенiе изъ бассейна какого-нибудь его обитателя. Однимъ словомъ, рыбамъ не была чужда до нѣкоторой степени идея добра и зла, или наслажденія и страданія, или счастья и несчастья. Онѣ умѣли радоваться и умѣли горевать.
Можно утвердительно сказать, что рыбій народъ съ нѣкоторыхъ поръ сильно поумнѣлъ. Иные готовы сказать, что ихъ охватило безуміе. Можетъ быть. Не спорю. Умъ и безуміе — сродни. Но, во всякомъ случаѣ, бывая въ этомъ ресторанѣ, я замѣтилъ, что рыба стала странно вести себя...
Конечно, читатель, — вы раціоналистъ и не вѣрите ни въ какія чудеса. Вы поэтому бросите читать мою повѣсть объ акваріумѣ и прервете ее на самомъ интересномъ мѣстѣ. До свиданія, невѣрующій читатель. Мнѣ вы ненужны. Я продолжаю разсказъ свой для дѣтей. Я убѣдился, что въ послѣднее время дѣти стали понимать меня гораздо лучше, чѣмъ взрослые.
Итакъ, рыба стала странно вести себя.
Однажды, по обыкновенію, сіяло электрическое солнце и по ресторану сновали во всѣхъ направленіяхъ разнообразныя тѣни. Что-то звенѣло, рычало, грохотало, пѣло разговаривало. Сотрясался полъ. Органъ выводилъ, громыхая: «славься, славься».
— Услужающій! — загремѣлъ голосъ невѣдомо откуда: — какъ ты думаешь, при моемъ, значитъ, брюхѣ, какой у меня полагается аппетитъ? А-ха-ха-ха-ха! Могу я, тоись, напримѣрича, заказать уху изо всего этого садка?
Слово «уха» производило всегда страшное впечатлѣніе на рыбъ — какъ громъ на людей...
— У-ха! у-ха!
Рыбій народъ насторожилъ слухъ. Нѣжныя форели поблѣднѣли, стерлядки опустились на дно, жизнерадостные налимы почувствовали тошноту и головокруженіе, ерши подняли иглы и свирѣпо раздули жабры.
Голосъ услужающаго пропѣлъ:
— Вы все можете, Псой Псоичъ. Кушайте во здравіе. Небось, на своемъ вѣку не одинъ садокъ изволили скушать?!
— Такъ-то оно такъ, — прогремѣлъ голосъ Псой Псоича: — охочъ я до ухи… А только я про аппетитъ тебя спрашиваю: есть у меня аппетитъ, али нѣтъ?
— А это ужъ вамъ знать, Псой Псоичъ, — отвѣчалъ томный голосъ услужающаго: — прикажете соорудить съ бутылочкой шампанскаго? Отмѣнная будетъ уха!
— У-ха! У ха!
Ершъ сталъ биться головой въ стеклянную стѣнку акварiума. Сигъ тоже подплылъ къ стѣнкѣ.
— Возмутительно, — сказалъ ершъ.
— Протестую, — промолвилъ сигъ.
— Sic, — произнесъ угорь, который предпочиталъ увертливыя движенія и такія же мысли прямымъ и опредѣленнымъ выступленіямъ.
— Что вы хотите этимъ сказать? — надменно спросилъ ершъ.
— Вы, кажется, задѣли мою честь? — спросилъ сигъ.
— Я хотѣлъ сказать: sic transit gloria mundi [1], но для этого необходимо, чтобы васъ, сигъ, сначала прокоптили въ надлежащемъ коптильномъ участкѣ. Тогда латинское изреченіе это будетъ, какъ нельзя больше, подходитъ къ вамъ, хи-хи-хи-хи!
Тутъ угорь юркнулъ въ расщелину туфовой скалы.
— Терпѣть не могу, когда нѣтъ твердыхъ убѣжденій, — засверкавъ глазами, какъ изумрудами, воскликнулъ ершъ.
Сигъ, въ знакъ согласія, кивнулъ головой.
Во избѣжаніе критическихъ поправокъ и замѣчаній, всегда непріятныхъ для авторскаго самолюбія, я долженъ пояснить, что рыбы, конечно, не говорятъ, потому что у нихъ нѣтъ голоса; но есть нѣмой языкъ, органомъ котораго служатъ жесты и мимика. Если присмотритесь къ рыбамъ, плавающимъ въ акваріумѣ, то увидите, что онѣ постоянно раскрываютъ ротъ. Это и есть то, что нужно: это онѣ разговариваютъ.
— Надо положить конецъ ухѣ! — вскричалъ ершъ.
Призывъ былъ услышанъ, и тотчасъ собрались около сига и ерша всѣ, которые чувствовали на себѣ гнетъ ухи.
Маленькая голубая щука крѣпко сжала челюсти и издали слѣдила за митингомъ
— Товарищи! — началъ ершъ: — мнѣ незачѣмъ восхвалять гражданское одушевленiе, внезапно охватившее васъ при одномъ только моемъ напоминанiи о томъ, что составляло благородную задачу всей жизни такихъ бойцовъ противъ ухи, какъ покойные братья мои, положившіе пузыри свои во имя общаго блага рыбьяго народа!
— Позвольте, ершъ, — закативъ глазки, сказала хорошенькая стерлядка: — не одна ваша партія приносила жертву на алтарь родины… А стерляди развѣ не страдали и не страдаютъ? Насъ варятъ въ кипяткѣ точно такъ же, какъ и васъ.
— Способы эксплуатаціи рыбьяго народа безграничны, — сказалъ красноперый окунь: — и мы не должны пререкаться другъ съ другомъ, а дѣйствовать единодушно. Окуни не менѣе страдаютъ отъ ухи, чѣмъ ерши и стерляди. Безпристрастіе требуетъ указать при этомъ еще на налимовъ; предварительно ихъ сѣкутъ, чтобы раздуть у нихъ печенку!.. Вообще скажу, товарищи, что до тѣхъ поръ уха будетъ торжествовать и страшный кошмаръ произвола висѣть надъ нашимъ бассейномъ, пока мы не сплотимся.
— Правда, правда! вскричалъ налимъ, хватаясь плавникомъ за свою печенку; — въ единодушіи сила! Да здравствуетъ свобода! Долой уху!
— Долой уху! подхватилъ весь митингъ.
— Но я еще не все сказалъ. Надѣюсь, прекрасная стерлядь, принадлежащая къ благороднѣйшему рыбьему роду круглоротыхъ, согласится со мною, что только тактикой можно что-нибудь достигнуть въ предстоящей намъ борьбѣ.
— Вполнѣ присоединяюсь къ мнѣнію почтеннаго налима, жеманно сказала стерлядка.
— Продолжаю, сказалъ налимъ: — наша налимо-стерляжья партія давно уже пришла къ убѣжденію, что такъ жить дальше нельзя; но мы должны опираться на право, а не на силу. Только образовавши нѣсколько комиссій и поручивши имъ разработку важнѣйшихъ правовыхъ нормъ, касающихся рыбьяго народа, можно добиться осуществленiя нашихъ завѣтныхъ идеаловъ… И прежде всего мы требуемъ свободы слова!..
— Хорошо сказано.
— Свободы собраній!
— Превосходно.
— Свободы... Однимъ словомъ, мы хотимъ пяти свободъ!
— Бисъ! захихикалъ изъ-подъ скалы угорь: — бисъ!
Ершъ пламенными глазами все время смотрѣлъ на краснорѣчиваго налима. Наконецъ, онъ не выдержалъ.
— Товарищъ налимъ, вскричалъ онъ: — вы забываете, что, кромѣ политики, есть еще экономика. Только путемъ экономическимъ можно достигнуть свободы. Нужна широкая экономическая реформа, нужно всеобщее уравненіе. Итакъ, да здравствуетъ равенство!
— Юридически всѣ равны, возразилъ налимъ: — но экономическаго равенства мы со стерлядкою не признаемъ. Если угодно, мы идемъ даже далѣе, мы стоимъ за акварный идеалъ. Вся рыба безразлично можетъ пользоваться водой, но и только. Я налимъ и не хочу быть ершомъ. Ершъ слишкомъ крайняя рыба. Онъ сторонникъ революціонныхъ переворотовъ, а мы друзья закономѣрности.
— Въ самомъ дѣлѣ, сказала стерлядь, поднимая свою аристократическую мордочку: — ничего нѣтъ ужаснѣе быть сваренной не по всѣмъ правиламъ поварского искусства. Конечно, я хочу жить, Но если ухѣ нужно, чтобы я была сварена, то, по крайней мѣрѣ — на основаніи закона.
— И притомъ, подхватилъ налимъ: — пересмотрѣннаго и утвержденнаго нами.
Ершъ толкнулъ сига въ бокъ и затѣмъ вдругъ оба ударились головою въ стѣнку.
— Какое отсутствiе гражданскаго мужества! Рѣчи налима пропитаны истинно рыбьимъ духомъ, или, вѣрнѣе, истинно рабьимъ. Налимо-стерляжья партія подслуживается ухѣ, это очевидно. Она питаетъ какіе-то темные замыслы. Посмотримъ, товарищъ сигъ, чѣмъ кончится все это единодушіе. Я признаю только бунтъ, продолжалъ орать ершъ: — сразить уху можно только возстаніемъ. Смерть ухѣ!
Сигъ ударился лбомъ въ стѣнку и шопотомъ сказалъ ершу:
— Товарищъ, ты ужасно храбръ. Я не знаю, отчего, но у меня дрожитъ хвостъ
— Крѣпись, товарищъ сигъ, съ искреннимъ чувствомъ сказалъ храбрый ершъ: — вмѣстѣ съ тобою мы положимъ начало новому рыбьему строю. Hе жалѣй головы, бей въ стѣнку. Товарищи, страстно обратился ершъ къ митингу: — не слушайте коварныхъ совѣтовъ налима и этой либеральной дворянки стерляди. Моя программа ясна и проста. Послѣдуйте моему плану… За мной, товарищи! Пробейте стѣнку въ акварiумѣ, и тогда мы его водами зальемъ темную силу, и она захлебнется въ грозныхъ волнахъ нашего негодованiя!
— Въ самомъ дѣлѣ, сказалъ окунь; — слѣдуетъ воспользоваться минутой.
— Друзья, я противъ предложенія ерша, благоразумно началъ налимъ: — намъ неизвѣстно, что такое за предѣлами нашего бассейна. Предположимъ, что мы въ состояніи разбить эту твердыню при помощи нашихъ слабыхъ головъ. Быть можетъ, ершъ съ сигомъ и пробьютъ брешь, но какой будетъ результатъ? Не очутимся-ли мы на сковородахъ или въ котлахъ скорѣе, чѣмъ мы думаемъ? Я ужъ не говорю о томъ, что такое предложенiе само по себѣ явно незаконно, такъ какъ въ немъ всѣ признаки бунта… Ахъ, не будемъ спѣшить. Ахъ, подождемъ господа!
— Ясна измѣна! вскричалъ ершъ потрясая жабрами.
Окунь выплылъ впередъ и произнесъ.
— Прошу слова. У насъ до сихъ поръ не выбранъ предсѣдатель, и отъ этого такъ не налаживается единодушіе.
— Никакъ не можетъ даже окунь обойтись безъ начальства, замѣтилъ ершъ: — ну, да ладно. Кого же выбрать въ предсѣдатели?
Раздались голоса:
— Угря!
— Вьюна!
— Выберемъ лучше головля, предложилъ налимъ.
Сомы, хранившiе до тѣхъ поръ молчаніе и не пристававшіе къ митингу, о чемъ-то шушукаясь съ голубой щукой, присоединились и подали голоса за головля.
Головель — рыба разумная; онъ быстро установилъ порядокъ и, окинувъ собраніе внимательнымъ взглядомъ, объявилъ:
— Слово предоставляется сомамъ.
Сомы страшно раскрыли рты и зашевелили усами.
— Все это ни къ чему, началъ сомъ, покрытый грязной плѣсенью: — какая тамъ свобода! Все это, братцы, ерунда. Мы благополучно жили, и все это враки, будто уха только и думаетъ о нашей гибели. Уха, напротивъ, намъ желаетъ счастья и блага, она отечески заботится о насъ: поитъ и кормитъ.
— Долой черную рыбу! заоралъ ершъ.
Его поддержали окунь и сигъ. Но когда налимъ и стерлядь захотѣли тоже возразить противъ новаго оратора, сомы до того страшно раскрыли рты, что оставалось только замолчать.
— Слушайте, что мы говоримъ, закричали сомы всѣмъ хоромъ: — послать адресъ ухѣ, просить ее и впредь благодѣтельствовать намъ!
— Смерть сомамъ! закричалъ ершъ и ринулся было на страшные усы оратора.
Вдругъ, голубая щука, какъ стрѣла, бросилась на ерша и схватила его за хвостъ, ободравъ на пути бокъ сигу.
Весь митингъ сталъ негодовать.
— До чего мы дожили?
—Боже, какая невоспитанность! кричала стерлядь.
Разумный головель собралъ всѣ свои силы и безстрашно объявилъ:
— Къ порядку дня. Голосъ принадлежитъ налиму!
Налимъ медленно началъ.
— Я, строго говоря, доволенъ, что въ нашемъ собраніи установилось, наконецъ, равновѣсіе, которое выразилось въ томъ, что крайніе ерши сцѣпились съ крайними сомами. Будучи представителями реальной политики, мы со стерлядью полагали бы, что для разрѣшенія нашего рокового вопроса слѣдовало бы привлечь еще наиболѣе безправную часть рыбьяго народа, а именно карасей, о которыхъ извѣстно только, что они любятъ жариться въ сметанѣ.
— Карасей, карасей!
Въ глубинѣ акваріума что-то замутилось, и какъ бы изъ тумана выплыли, тускло сіяя своею чешуею и распространяя мужицкій запахъ, караси.
Головель спросилъ:
— Вы кто такіе?
— Мы караси.
— Вы и есть караси?
— Такъ точно, ваше благородіе.
— Отлично, братцы... Такъ вотъ скажите намъ, желаете ли вы свободы въ предѣлахъ тѣхъ юридическихъ нормъ, которыя предлагаетъ выработать налимъ, или же вы желаете сохранить навсегда крѣпостную зависимость отъ ухи, согласно законопроекта, внесеннаго сомами, или же, наконецъ, вы присоединитесь къ ершамъ и предпочтете революціонный путь освобожденiя изъ-подъ ига ухи?
Караси, лѣниво переваливаясь, переглянулись между собою и ухмыльнулись.
— Пущай себѣ будетъ свобода, намъ что. Намъ вотъ только притѣсненіе отъ щуки... Да Богъ съ нею. Пущай и она живетъ...
— Чего же вамъ нужно? объективно спросилъ головель: — и нельзя-ли формулировать ваши требованія въ болѣе конкретныхъ выраженіяхъ?
Караси опять переглянулись и испустили такой духъ, что головель пощекоталъ у себя въ ноздряхъ кончикомъ хвоста. А у стерляди глаза сдѣлались совсѣмъ бѣлыми.
Посовѣтовавшись между собою, караси сказали.
— Ваше благородіе, господинъ головель, намъ бы землицы. Угри да вьюны всю землю забрали. Вѣришь, до чего дошло, голова въ усадьбѣ, а хвостъ — на чужой землѣ. Да и земля-то стала песокъ пескомъ, и пьявки расплодились дюже. Ни тебѣ вздохнуть, ни тебѣ перевернуться. А полежать, самъ знаешь, намъ охота.
— Имъ нужно просвѣщеніе, господинъ предсѣдатель: — темная рыба! сказалъ налимъ.
Но тутъ ершъ, освободивши хвостъ изъ пасти щуки, весь окровавленный, влетѣлъ на митингъ.
— Товарищи, требую суда и слѣдствія надъ ухою! съ страшнымъ гнѣвомъ и съ необыкновеннымъ одушевленіемъ закричалъ онъ.
— А и въ самомъ дѣлѣ, важная будетъ уха! громыхнулъ громъ.
— У-ха! У-ха!
Голосъ Псоя Псоича все грохоталъ.
— Такъ ты, Ванька, въ самомъ дѣлѣ, думаешь, что я сожру всю эту рыбу? Ха-ха-ха! Нѣтъ, братъ для насъ много. Ты, братъ, намъ въ зеленомъ кабинетѣ на двадцать персонъ столикъ накрой. Гуляю я, братъ, сегодня по случаю того, что я сломалъ рубль. На чашку чаю, то-ись, кредиторовъ пригласилъ. Знай нашихъ... Рента-то государственная тю тю. Не бойся, за все, братъ впередъ плачу съ лихвою Я себѣ не врагъ, кое-что оставилъ. До чего легко стало на душѣ… Сейчасъ хочу живую рыбу кушать! Ха-ха-ха!
Псой Псоичъ весело опустилъ громадный волосатый кулакъ въ акваріумъ, схватилъ налима за жабры, вытащилъ и вонзился зубами въ его темную спину.
Рыба въ смятеніи стала носиться по бассейну.
Услужающій ловилъ ее сачкомъ и бросалъ въ кадку.
Рѣдко кто спасся. Погибла стерлядка, погибъ окунь и ершъ. Уцѣлѣли только сомы за негодностью. Да пока ускользнули угорь со щукой.
Уха восторжествовала. Все послѣ обѣда и весь вечеръ хвалили ее. Удивительная была уха — почти Демьянова.
1907.
МЕРТВЫЕ ЦВѢТЫ.
Шла старуха по Большому проспекту на Петербургской Сторонѣ. Она была отвратительно одѣта: юбка утратила свой первоначальный цвѣтъ и вся была въ лохмотьяхъ, на плечахъ болтался большой, тоже грязный, нѣкогда сѣрый, бахромчатый платокъ, и на сморщенномъ лицѣ, съ странной отчетливостью напоминавшемъ собою печеное яблоко, просительно бѣгали слезящіеся мышиные глазки.
Эта старуха была воплощеніемъ бѣдности, нужды и отчаянія, тупости и безсмысленнаго испуга.
Страшно было видѣть на тусклой и мокрой панели приближеніе этого существа, мучительно похожаго на женщину и всѣмъ своимъ видомъ кричащаго, что оно хочетъ ѣсть, пить и грѣться въ теплѣ и уютѣ.
Я опустилъ руку въ карманъ и сталъ искать мелочи. Деньги — единственное средство, при помощи котораго мы, живущіе въ холѣ и довольствѣ и не очень задумывающiеся надъ завтрашнимъ днемъ, отбиваемся отъ злыхъ призраковъ, встрѣчающихся постоянно на нашемъ пути.
Ужаснѣе всего было, что жалкая и страшная колдунья въ протянутой рукѣ, костлявой, неумытой, черно-желтой рукѣ, какъ въ птичьей лапѣ, держала два цвѣтка — резеду и красную гвоздику — и, когда увидѣла меня, прямо направила на меня оба цвѣтка.
Не сгибая колѣнъ и склонивъ сухой станъ въ неопрятномъ платкѣ, несчастная, раздавленная, отвратительная старуха поднесла мнѣ свои грошевые цвѣты и сказала:
— Я не прошу милостыни... Вижу, вы добрый господинъ, и не обидите меня... Купите у меня цвѣты... что дадите... я всѣмъ буду довольна... ради Бога, купите у меня два цвѣтка!
Я далъ старухѣ двадцать копѣекъ и взялъ цвѣты.
Было холодное утро. Легкій туманъ колыхался надъ улицей. Пустынны были панели. Я разминулся со старухой. И отъ цвѣтовъ, которые я купилъ у нея, какая то легкая теплота распространилась въ моей ладони. Не знаю, почему я не бросилъ цвѣта на мостовую. Мнѣ казалось неловкимъ бросить ихъ. Старуха могла увидѣть и взглядомъ упрекнуть меня за презрѣніе къ ея цвѣтамъ; потомъ цвѣты остались въ моей рукѣ машинально.
Я вернулся домой и поставилъ ихъ въ вазочку. Они ужъ начинали увядать и ожили отъ воды; и мучнистый ароматъ распространился отъ нихъ въ комнатѣ. Ярко пахла резеда, и въ тонъ ей вторила гвоздика. Это былъ дуэтъ запаховъ.
Въ этотъ день холерная эпидемія въ Петербургѣ достигла особенно высокихъ цифръ. Кажется, она никогда не достигала такой высоты ни раньше, ни послѣ. Былъ кульминаціонный пунктъ холеры.
Я сидѣлъ у письменнаго стола, думалъ о холерѣ и представлялъ себѣ панику въ тѣхъ квартирахъ или домахъ, гдѣ она появляется. Самъ я былъ далекъ отъ страха холеры. Но меня стала безпокоить легкая боль въ головѣ. Кабинетъ мой въ нижнемъ этажѣ и выходитъ окнами на сѣверъ. Въ пасмурную погоду темно въ моемъ кабинетѣ. Я зажегъ электричество и хотѣлъ заниматься. Но вѣки мои отяжелѣли. Я проработалъ передъ тѣмъ всю ночь, и не мудрено, что заснулъ,
Мнѣ снилась церковь съ низкимъ куполомъ и съ пестрыми крестами вмѣсто оконъ. Стекла свѣтились зеленымъ и краснымъ огнемъ, а посреди церкви на катафалкѣ стоялъ гробъ, и въ немъ лежала молодая женщина, съ блѣднымъ, какъ воскъ, лицомъ и съ восковыми на груди руками. Къ подножію катафалка прислоненъ былъ вѣнокъ изъ резеды и красныхъ гвоздикъ. Никого не было въ церкви, кромѣ покойницы. И было ужасно тоскливо и душно. Но вотъ пришла, не сгибая колѣней, въ грязномъ платкѣ и склонивъ станъ, съ протянутой впередъ костлявой, черножелтой рукой, сморщенная старуха, и стала подкрадываться къ вѣнку и такъ вцѣпилась въ него, и съ такой алчностью стала теребить его и вырывать изъ него резеду и красную гвоздику, что меня обвѣяло всего смертельнымъ ужасомъ, и я съ крикомъ проснулся.
Странный былъ сонъ и тяжелый. И спалъ то я всего пять минутъ. Глаза мои встрѣтили, прежде всего, два цвѣтка, необыкновенно ожившіе за это время: резеда надулась, окрѣпла, стала сочнѣе, а гвоздика распрямила свои лепестки и подняла ихъ кверху. Мучнистый ароматъ не давалъ покоя.
Я поскорѣй выбросилъ цвѣты на кухню и опять вышелъ на улицу. И опять встрѣтилъ я ту же старуху, продававшую два цвѣтка.
— Не прошу милостыни, — начала было она, но узнала меня, и только благодарно поклонилась, а я перешелъ на другую сторону.
Я догадался. Не утверждаю навѣрное, но мнѣ кажется, что нищая старуха — профессіональная посѣтительница и участница похоронныхъ процессій. Вѣнки живыхъ цвѣтовъ, возлагаемые на гробы покойниковъ, были ея законной добычей. А можетъ быть, нѣсколько такихъ же страшныхъ старухъ дѣлятъ между собою и рвутъ на части надгробные вѣнки.
Нищая жизнь, чтобы окончательно не погаснуть, цѣпляется за смерть.
1908.
ДУША ИСКУССТВА.
— Какое лицо! — вскричалъ старый любитель картинъ.
Художникъ, создавшій картину, молчалъ.
Въ мастерской свѣтъ падалъ сверху, картина была ярко освѣщена.
Она была небольшая. Золотая рама плотно схватывала ее.
Съ полотна смотрѣли открытые глаза изъ-подъ нѣжныхъ благородныхъ бровей. Высокій лобъ думалъ, румяныя губы говорили. Волосы разсыпались по плечамъ молодой женщины. Бѣлый, упрямый подбородокъ придавалъ картинѣ характеръ портрета. И легкія черныя кружева до половины скрывали собою плечи — блѣдныя, нервныя; плечи вздрагивали.
За большія деньги купилъ любитель картину, повѣсилъ на стѣнѣ въ своемъ загородномъ домѣ, гдѣ было уединенно, и много было книгъ и цвѣтовъ, и смотрѣлъ на прелестное лицо.
Такого тоскующаго выраженія глазъ и прозрачнаго взгляда, при полномъ невѣдѣніи того, что творится въ душѣ красавицы, онъ еще не встрѣчалъ. И его поражало, какъ могъ художникъ влить столько жизни въ это небольшое полотно.
Случалось далеко уѣзжать по дѣламъ; но каждый разъ доставляла ему радость эта картина, и онъ спѣшилъ къ ней на свиданіе, онъ влюблялся въ картину, пока видѣлъ ее передъ собою: когда уходилъ, ему становилось грустно, и гдѣ бы онъ ни былъ, думалъ о ней.
Живые глаза смотрѣли на стараго богача, когда онъ томился ихъ выраженіемъ, и сознаніе своей личности одухотворяло это прекрасное блѣдное лицо, а губы женщины трепетали отъ желанія, можетъ быть, кричать.
Сознаніе было смутное, расплывающееся въ своей неясности, какъ облака и тучи въ туманномъ воздухѣ — и мучительное. Или оно, какъ лучъ свѣта, блуждало въ темномъ заключеніи среди грубыхъ тканей, жирныхъ и ядовитыхъ красокъ, тягучаго лака, гвоздей, твердаго скелета подрамка — его угнетала массивная рама, густо позолоченная и украшенная стильною рѣзьбою. Сознаніе терзалось, какъ геній, рожденный и замуравленный въ мрачной тюрьмѣ. Оттого такъ темна и взволнованна была душа картины въ прозрачномъ взглядѣ ея тоскующихъ, чарующихъ глазъ.
Со стѣны, на которой она висѣла, можно было видѣть въ окнѣ — и она ихъ видѣла! — какъ въ рамѣ другой картины, — далекіе блѣдно-зеленые холмы съ голубыми лѣсами, съ бѣло-желтыми и розовыми облаками на ясномъ небѣ, съ полосой моря на высокомъ горизонтѣ и съ бѣлѣющими парусами. Летали птицы рѣзвыми стаями, и цвѣли жасмины и сирень, и по оранжевымъ дорожкамъ проходили сосѣднія дачницы подъ бѣлыми и красными зонтиками. Онѣ похожи были на движущіеся цвѣты.
За стѣнами уединеннаго дома развивалась другая — полная, широкая, страстная и красивая жизнь, свободная, вольная, гдѣ воздухъ, гдѣ солнце, гдѣ мысль. Картина смотрѣла въ окно тоскующимъ взглядомъ, и слезами наполнялись ея глаза.
О, жизнь! О, голубая даль!
Въ одинъ изъ пріѣздовъ своихъ владѣлецъ картины замѣтилъ, что золотая рама лопнула по угламъ.
Это обезпокоило его.
Онъ, по обыкновенiю, смотрѣлъ въ глаза красавицы — и на этотъ разъ ему почудилось въ нихъ, рядомъ съ тоскующимъ, выраженiе отчаянія. Искры гнѣва загорались въ глубокихъ зрачкахъ.
Было страшно тихо на дачѣ. Поблекла зелень и на блѣдномъ небѣ алѣли темныя гроздья рябины, а море застыло вдали, какъ стекло.
— Ну, что-же ты смотришь на меня — казалось говорила красавица и трагически-живыя губы ея чуть шевелились. — Понимаешь-ли ты мою душу, или нѣтъ? И хочешь-ли мнѣ помочь въ моей безысходной тоскѣ? Поговори со мной, сдѣлай такъ, если ты человѣкъ, чтобы я вышла изъ оцѣпененiя. Дай мнѣ воли, зажги меня своею любовью!
Любитель вздрогнулъ, потому что среди мертвой тишины раздался, какъ стонъ, трескъ еще дальше лопнувшей рамы. Онъ рѣшилъ, что надо пригласить мастера и переклеить раму, но забылъ и покинулъ картину и дачу; впрочемъ когда онъ уже надѣлъ шляпу и стоялъ въ дверяхъ, поворачивая въ замкѣ ключъ, онъ услышалъ вздохъ; и воспоминанiе о немъ, какъ о чемъ-то непонятномъ, долго наполняло его грудь ужасомъ; и примѣшивалось еще угрызенiе совѣсти, раздражавшее его, какъ нѣчто окончательно нелѣпое.
Въ клубѣ, бесѣдуя послѣ обѣда на диванѣ съ пріятелемъ, онъ любилъ поговорить о своей чудесной картинѣ, и шутилъ надъ собою.
— Я влюбленъ въ нее до того, что боюсь показаться ей на глаза... право же... престранная картина... чего ей надо отъ меня, хотѣлъ-бы я знать? А видимо скучаетъ.. Да, вотъ тайны искусства и предѣлы творчества! — начиналъ распространяться онъ, а въ душѣ его все ныла искра страданія, зароненная тѣмъ призрачнымъ вздохомъ.
Всю бѣлую зиму одиноко висѣла картина въ туманной холодной комнатѣ, устремивъ глаза на замерзшее море, изъ-за серебряной глади котораго часто выкатывался огненно-рубиновый шаръ.
Когда-же старый любитель пріѣхалъ, наконецъ, весною и вошелъ въ комнату, крикъ испуга и жалости вырвался у него; рама уже распалась на куски и лежала на паркетѣ вмѣстѣ съ полотномъ. Картина не выдержала тѣснаго заключенія, сдѣлала страшное усиліе и воля ея сломила золотую клѣтку. Но чудные глаза и умныя губы картины погасли, растрескалась краска и на части разорвалась ткань. Картина умерла — она вышла изъ рамки, не дождавшись ниоткуда спасенія.
А старый любитель долго печалился и рѣшилъ купить новую головку на опустѣвшее мѣсто. До сихъ поръ ищетъ ее во всѣхъ мастерскихъ и на всѣхъ аукціонахъ...
1904.
ВЪ НѢКОТОРОМЪ ЦАРСТВѢ.
I. Красная дорога.
Низко надъ головой мчались тяжелыя тучи, окрашенныя потухающей зарею. Надъ пропастью висѣла арка, и красный фонарь мигалъ вдали.
Черная тѣнь проводника бѣжала подлѣ экипажа, черныя лошади прыгали впереди, и страхъ не позволялъ мнѣ обернуться.
Я слышалъ шелестъ упругихъ колесъ, мѣрное стучанiе копытъ, шумъ несущихся тучъ. Зубчатыя стѣны и башни далекаго города уже виднѣлись въ сумракѣ.
На днѣ пропасти подъ колеблющейся аркой ревѣлъ алый ручей; мѣсяцъ, рогами обращенный вверхъ, трепеталъ въ немъ золотой чешуею.
II. Струнная музыка.
Лошади остановились. У подъѣзда мрачнаго дома, крыши и высокихъ оконъ котораго я не могъ разсмотрѣть, я сошелъ на землю. Струнный звонъ незнакомаго вальса влился въ мой слухъ, когда я поднимался по ступенькамъ крыльца.
Онѣ были изъ розоваго камня. Въ нишахъ спали сторожа. Верхняя площадка была ограждена рѣшеткой — чугуннымъ кольцомъ изъ стилизованныхъ змѣй.
Такая-же змѣя спускалась съ потолка и въ раскрытомъ зѣвѣ своемъ держала свѣтозарное хрустальное яблоко.
Струны все трепетали, звучалъ вальсъ.
III. Танецъ старухъ.
Изнутри отворила дверь черная старуха въ креповой фатѣ, выдѣлявшей мертвую желтизну удлиненнаго лица съ хищнымъ носомъ.
Я очутился въ овальной бѣлой залѣ съ золочеными хорами. Молодыя дѣвушки играли на скрипкахъ, наклонившись съ хоръ, и оттуда лились потоки свѣта.
А внизу на сумрачномъ паркетѣ медлительнымъ роемъ ритмично носились и скользили черныя старухи, поворачиваясь то лицомъ, то затылкомъ. Улыбка растягивала ихъ синія губы, глаза съузились, развѣвались полупрозрачныя ткани, костлявые пальцы прищелкивали, какъ кастаньеты.
Вдругъ онѣ останавливались, и начинали искоса смотрѣть на меня; тогда сверкали бѣлки ихъ глазъ.
Въ стѣнѣ было много дверей. Только одна была настоящая, но я не зналъ, которая. Каждую нажималъ я, и ни одна не подавалась.
Когда же я терялъ надежду уйти, возобновлялся танецъ. Съ хоръ свѣшивались, опираясь грудью на перила, бѣлокурыя дѣвушки съ блѣдными страстными лицами и все играли на скрипкахъ — трепетали струны, звучалъ вальсъ, клубились вуали.
IV. Полоска свѣта.
Слабѣе становились звуки, замирали струны, и странныя старухи, кружась, приблизились ко мнѣ. Сталъ меркнуть свѣтъ, лившiйся съ хоръ вмѣстѣ съ звуками вальса.
Не дойдя до меня, онѣ безшумно открыли дверь, которую я такъ напрасно искалъ, и одна за другой исчезли.
Совсѣмъ погасли хоры, смолкла музыка; въ залу, наполненную мракомъ, яркимъ лучомъ врѣзывалась полоска свѣта изъ прихожей и лежала на паркетѣ узкимъ конусомъ.
Меня подстерегали на лѣстницѣ — я чувствовалъ это. Но и зала не была безопасна Кто-то тихо блуждалъ во мракѣ. Я сталъ глядѣть на полоску свѣта — и увидѣлъ на паркетѣ пару ногъ въ женскихъ сандалiяхъ.
— Кто здѣсь? Спросилъ я сдавленнымъ голосомъ.
— Первая Скрипка?
— Гдѣ я?
— Въ Богадѣльнѣ Веселыхъ Старухъ
V. Встрѣча.
Послышался шумъ шаговъ, темные силуэты стариковъ показались въ дверяхъ.
Цѣпкія руки протянулись ко мнѣ, я потерялъ сознанiе. Но когда я очнулся, вѣтерокъ дулъ мнѣ въ лицо, надо мною прямой темнозеленой лентой мерцало небо, возвышались съ обѣихъ сторонъ двумя стѣнами многоэтажные дома съ сквозными балконами, узкая улица, съ гладкой каменной мостовой, дремала во мракѣ.
Конная статуя, легкая, какъ тѣнь, виднѣлась въ концѣ улицы. Голубая искра вспыхнула и подвигалась ко мнѣ. Шелъ человѣкъ съ фонаремъ.
Я всталъ. На немъ былъ широкій плащъ, и фонарь снизу освѣщалъ безбородое лицо, оставляя въ тѣни его лобъ и глаза. Сразу узналъ я его. Давно, лѣтъ пять назадъ, я познакомился съ нимъ въ этомъ же городѣ, который не былъ тогда еще такъ роскошенъ и величавъ.
Я даже вспомнилъ его имя.
— Василій?
VI. Таинственная улица.
Онъ тоже узналъ меня и пожалъ мою руку свободной рукой. Плащъ его распахнулся, блеснула шпага, съ эфесомъ въ формѣ изогнутой змѣи съ золотою насѣчкой.
— Пойдемъ! шепотомъ пригласилъ онъ меня.
Я хотѣлъ разспросить его о Богадѣльнѣ Веселыхъ Старухъ, но онъ поблѣднѣлъ и приложилъ палецъ къ губамъ. Впрочемъ, чуть слышно онъ проговорилъ, помолчавъ:
— Причуда стараго режима, которому скоро положатъ конецъ.
Громадныя тѣни, отбрасываемыя нашими фигурами, дрожали, переламываясь на рѣзныхъ выступахъ и лѣпныхъ карнизахъ домовъ, объятыхъ сномъ.
Плотно были закрыты скульптурныя двери и желѣзные ставни; голуби, съ головой подъ крыломъ, дремали на оконныхъ кровелькахъ. У нѣкоторыхъ подъѣздовъ лежали люди, закрывъ руками лицо прямо на каменной мостовой. Можетъ быть, то были нищiе или усталые путники, въ родѣ меня.
VII. Шпаги звенятъ.
Василій остановился. Лучи его фонаря освѣщали улицу вплоть до конной статуи. Отрядъ юношей въ плащахъ и со шпагами, какъ съ синими молнiями, мѣрнымъ шагомъ подвигался впередъ. — А, вотъ они! Мой спутникъ поставилъ фонарь на землю и также обнажилъ шпагу. Но отъ неосторожнаго движенiя моего опрокинулся фонарь и погасъ.
Шпаги скрестились, и въ темнотѣ сталъ раздаваться короткiй звонъ клинковъ. Василiй вступилъ въ единоборство съ отрядомъ. Все чаше звенѣли удары, ослабѣвали звуки, отступалъ отрядъ.
Еще минута — все замолкло. Я остался одинъ. Свѣтлѣе стали небеса. Поднявъ голову я увидѣлъ на страшной высотѣ, на балконахъ, тускло позолоченныхъ сіяніемъ незримаго мѣсяца, прекрасныхъ дѣвушекъ, съ блѣдными лицами, привлеченныхъ шумомъ сраженія.
Онѣ смотрѣли внизъ, о чемъ-то тревожно шептались — и не видѣли меня. Бѣлокурыя съ бѣлыми плечами, съ глазами, ясными какъ звѣзды, онѣ были недоступнѣе звѣздъ.
VIII. Великое открытіе.
Всѣ дома были почти одинаковой высоты; но одинъ изъ нихъ остался нетронутымъ, съ незапамятныхъ временъ. Онъ былъ покрытъ черепицей, деревья осѣняли его, колонны, похожія на веретено, поддерживали его фронтонъ. Узкія окна были закрыты ставнями, сквозь щели которыхъ пробивался желтый свѣтъ. Шумѣли голоса.
— Здѣсь сходка? спросилъ подошедшій въ сѣромъ плащѣ. — Войдемъ, товарищъ.
Въ залѣ, съ красными обоями, сквозь синій дымъ трубокъ, я увидѣлъ болѣе сотни молодыхъ людей, окружавшихъ оратора, который стоялъ на столѣ, подъ старинной богатой хрустальной люстрой съ мигающими восковыми огарками, и размахивалъ руками.
Всѣ были худы — щеки ввалились, скулы выдались, губы прилипли къ зубамъ; но глаза, устремленные вверхъ на оратора, горѣли страннымъ огнемъ.
— Да здравствуетъ великое открытіе! въ одинъ голосъ кричали они, прерывая оратора.
Онъ-же говорилъ:
— Мы сбросимъ ярмо мнимаго бытія, угнетающее насъ, мы станемъ плотью, формы наши будутъ осязаемы, живыя, реальныя! Мы дадимъ реальное бытіе городу, гдѣ безуміе и тиранія свили себѣ гнѣздо, мы станемъ любить и ненавидѣть, въ нашихъ жилахъ заструится кровь!
— Да здравствуетъ великое открытіе!
IX. Капля крови.
Ораторъ продолжалъ:
— Капли моего эликсира достаточно было, чтобы въ Василія влить силы живого существа. Онъ дрался, какъ левъ, съ княжескими солдатами и гналъ ихъ до Мертваго Поля... О! вдохновенно воскликнулъ онъ: — я вижу небеса надъ собою, залитыя солнцемъ, воздухъ напоенъ запахомъ почекъ березы и тополя, соха рѣжетъ тучную землю, дѣти какъ цвѣты, ластятся къ намъ, полногрудыя жены обнимаютъ насъ!
— Проклятіе кошмару!
— Проклятіе! ревѣли скелеты, бросая на полъ трубки, которыя разлетались въ дребезги.
Но въ залу медленно вошелъ человѣкъ во всемъ черномъ, на бѣломъ лицѣ его застыла саркастическая улыбка, въ рукѣ онъ держалъ хлыстъ, который извивался, какъ змѣя.
— Князь!
Всѣ пали, какъ пораженные громомъ, протянувъ, руки впередъ. Великій изобрѣтатель прижался лицомъ къ его ногамъ.
Тихо открылъ я дверь. Сіяла луна. Во дворѣ, опираясь на шпаги, стояли юноши вокругъ связаннаго и распростертаго на землѣ Василія, глаза котораго погасали, а съ бѣлыхъ губъ на подбородокъ сползала капля крови. Въ правой рукѣ онъ судорожно сжималъ сломанный клинокъ.
X. У статуи вѣчности.
Ворота были раскрыты, я вошелъ; никто не замѣтилъ меня. Или, можетъ быть, я былъ неуязвимъ, подобно мертвой головѣ, забравшейся въ улей?
Конная статуя темнѣла въ лучахъ поднявшагося полумѣсяца.
Она изображала Вѣчность, — всадникъ похожъ былъ на Сатурна. Конь бѣшено мчался подъ старцемъ, и отчаяніемъ дышала его благородная морда съ раздутыми ноздрями.
Статуя возвышалась на перекресткѣ двухъ улицъ; одна изъ нихъ терялась вдали слѣва и справа, — вся въ бѣлыхъ колоннахъ, казавшихся призраками. Безконечно было число ихъ. Яркій лунный свѣтъ позволялъ видѣть въ синемъ туманѣ ночи еще перспективы колоннъ, воротъ и арокъ, повисшихъ въ воздухѣ, аллеи кипарисовъ, неправильныя очертанія озеръ, въ острыхъ заливахъ которыхъ отражались бѣлыя стѣны отдаленныхъ зданій, похожихъ на надгробные памятники.
XI. Малая Медвѣдица.
Я пошелъ въ прежнемъ направленіи — по улицѣ Усталыхъ Путниковъ. Теперь при лунномъ освѣщеніи она была еще великолѣпнѣе и молчаливѣе. Эмблема или гербъ — змѣя — повторялась почти на каждомъ фронтонѣ въ видѣ лѣпнаго украшенія. Она была то черная, то золотая, то вытягивалась, какъ волнующаяся лента, то кусала свой хвостъ, то спускалась съ карниза на подобіе лебединой шеи.
Обернувшись, я увидѣлъ, что на всѣхъ балконахъ. на всѣхъ подъѣздахъ, на всѣхъ выступахъ домовъ уже висятъ люди; по страшной худобѣ можно было узнать ихъ; быстро возстановленъ былъ порядокъ въ Царствѣ Молчанія
Въ ужасѣ я свернулъ въ первый переулокъ. Одноэтажныя постройки утопали здѣсь въ безшумныхъ и темныхъ садахъ. Дорога уходила все внизъ.
У площадки, заросшей росистой травой, надъ которой носился рой ночныхъ мотыльковъ, блеснули золотые изломы пустыннаго, похожаго на башню, дома. То былъ храмъ, — но въ честь какого Божества?
Синее небо отражалось въ золотомъ фасадѣ. Все звѣзды Малой Медвѣдицы горѣли въ немъ. Огненная морда ея устремлена была вверхъ. Я хотѣлъ сравнить отраженіе съ созвѣздіемъ, но не нашелъ его въ небесахъ.
XII. Домъ близкихъ.
Выше этого дома, въ тупикѣ, прислонившись къ горѣ, стоялъ другой домъ; онъ состоялъ изъ нѣсколькихъ узкихъ зданiй, соединенныхъ между собою воздушными желѣзными лѣстницами и украшенныхъ балконами, колонками, изразцовыми трубами.
По боковой лѣсенкѣ взобрался я наверхъ. Стеклянная галлерея наполнена была игрою лунныхъ лучей и тѣнями узколистныхъ растеній Недолго длилось мое смущеніе: я узналъ жилище родныхъ, давно ушедшихъ отъ меня.
Собачка Жучка ласково залаяла и разбудила отца, мать, сестеръ. Обнявши меня и прослезившись, мать, съ сіяющими отъ счастья глазами, побѣжала въ столовую, чтобы угостить меня. Она открывала и закрывала буфеты и звенѣла ключами.
Отецъ пожималъ мнѣ руку; отъ дряхлости онъ трясъ головою. Борода его казалась серебрянымъ сiяниемъ. Мнѣ ближе хотѣлось разсмотрѣть его, но въ домѣ не было свѣчей.
— Ты еще постарѣлъ, отецъ? Спросилъ я, когда мы вошли въ кабинетъ.
— Нѣтъ, съ тѣхъ поръ я не измѣнился.
— Отчего мать не идетъ сюда?
— Доставь ей удовольствіе, насмѣшливо сказалъ онъ: — она не хозяйничала ровно четверть вѣка.
Я вздрогнулъ; сестры смотрѣли на меня. Три дѣвушки — три страдалицы. Онѣ догадались, о чемъ я подумалъ и что я вспомнилъ — и стали улыбаться. Но улыбки ихъ были печальны, печальны были ихъ глаза.
XIII. Порядокъ и законность.
— Поговоримъ, сказалъ отецъ, сѣлъ и положилъ руки съ локтями на письменный столъ, гдѣ все было на своемъ мѣстѣ — карандаши и перья рядами лежали на зеленомъ сукнѣ, и, склеенныя сургучемъ, битыя статуэтки отбрасывали маленькія черныя тѣни на своды законовъ. — Поговоримъ!
Словно въ туманѣ велась эта бесѣда. Отцу было извѣстно, что въ городѣ движеніе и что молодежь грезитъ «матеріализмомъ». Но онъ былъ противъ обновленія. Онъ всегда стоялъ за основы, онъ былъ консерваторомъ и предсказывалъ, что революція дурно кончитъ.
Сестры слушали и вздыхали, онѣ держались другого мнѣнія. Въ двадцать лѣтъ хорошо имѣть алыя губы, слышать горячее біеніе своего сердца, купаться въ лучахъ солнца.
— Надо условиться, что такое основы! робко замѣтила младшая сестра. — Развѣ не возвратилась на землю маленькая мертвая Соня, благодаря только одной горячей каплѣ крови?
Но отецъ не любилъ возраженій и суевѣрій. Онъ сурово посмотрѣлъ на дѣвушекъ, и онѣ вышли изъ кабинета.
Мать показалась въ дверяхъ; лицо ея было страшно блѣдно.
— Веселыя старухи сожрали все до послѣдней крохи! объявила она со слезами.
Отецъ подмигнулъ мнѣ и указалъ со вздохомъ на свой лобъ («что дѣлать! Бѣдняжка!»)
Онъ сказалъ одну изъ своихъ самыхъ блестящихъ рѣчей въ защиту порядка и вѣрноподданически проклялъ всѣхъ, кто ищетъ другой жизни.
— Прощай, да благословитъ тебя Богъ! шепнула мать, беззвучно рыдая.
Какъ тяжело и грустно было покидать мнѣ отчiй домъ! Навсегда погаснули милыя тѣни…
XIV. Обратный путь.
Свѣтало, когда я вышелъ. Вскорѣ я очутился за высокими каменными воротами. Они назывались Восточными и были раскрыты настежъ. Мѣсяцъ заходилъ. Темнолиловыя тучи съ яблочно-зелеными просвѣтами скрывали мѣсяцъ. Брежжила утренняя заря. Обширное поле лежало предо мною, и по немъ, какъ по морю корабли, шли туманы.
Бѣдныя хижины разбросаны были по сторонамъ. Я приблизился къ одной изъ нихъ и посмотрѣлъ въ окно. На жесткихъ нарахъ спалъ человѣкъ, сложивъ руки на груди.
Постучавъ по стеклу, я разбудилъ его. Тутъ же подъ навѣсомъ я увидѣлъ черныхъ коней, которые покосились на меня пламеннымъ глазомъ.
Быстро выкатилъ человѣкъ коляску и, безпокойно посматривая на небеса, сталъ запрягать лошадей. Онъ торопился, и его тревога сообщилась мнѣ. Луна зашла совсѣмъ, загорѣлись свѣтлыя тучки съ золотою каймой. Мы подъѣхали къ рѣкѣ.
Налѣво въ дымноянтарной дали выступала арка. Тамъ-же синѣли въ туманѣ башни, зубчатыя стѣны, скалистые берега. Прямо качались зеленые камыши и струилась блѣдноалая вода, а черезъ лужицы быстро переползали красивыя сверкающія змѣйки.
Возница спрыгнулъ съ козелъ и взялъ коней подъ уздцы, чтобы переправиться въ бродъ. Но едва онъ ступилъ по колѣно въ воду, какъ изъ камышей раздался дѣвичій крикъ, мильонами брызговъ обдало меня, рой прелестныхъ созданій съ стройными тѣлами дѣвственницъ, на сильныхъ бѣлыхъ крыльяхъ, алѣющихъ въ лучахъ восхода, поднялся надо мною. Я схватилъ на лету и притянулъ къ себѣ одно гибкое существо, мнѣ страстно хотѣлось взглянуть ему въ лицо, но оно со смѣхомъ закрывало его руками, трепетало, какъ пойманный лебедь, отбивалось своими мощными горячими крыльями и вдругъ вырвалось и взмыло къ небесамъ, къ своимъ подругамъ, которыя летѣли уже на недостижимой высотѣ. Когда же плѣнница догнала ихъ, развѣвающіеся волосы ихъ сверкнули золотомъ, и онѣ слились съ облаками.
1904.
УГОЛЬ И БРИЛЛІАНТЪ.
Брилліантъ и Уголь оба лежали на бѣломъ листѣ бумаги на столѣ профессора.
Большое Зажигательное Стекло въ деревянной оправѣ тутъ же грѣлось на солнышкѣ и дремало.
— Какъ смѣли положить меня съ тобою рядомъ! — вскричалъ Брилліантъ — а извѣстно что бриллiанты кричатъ — и засверкалъ съ досады.
— Простите меня, господинъ! — хриплымъ шопотомъ проговорилъ Уголь.
— Говори громче!
— Можно и громче сказать. Только боязно, ваша свѣтлость. Какъ бы не разбудить вонъ того пузатаго барина.
— Ты говоришь про Зажигательное Стекло? Но онъ — стекло и больше ничего.
— Ну нѣтъ, нельзя сказать, что больше ничего. Онъ прямо съ Солнышкомъ бесѣдуетъ, какъ вотъ я съ тобою. И ужъ до чего палитъ! Ямку во мнѣ страшенную выжегъ. Серьезный баринъ.
— Зачѣмъ же онъ ямку въ тебѣ выжегъ? — съ презрѣніемъ глянувъ на Уголь, спросилъ Брилліантъ.
— Я мужикъ темный. Тутъ другой, въ родѣ какъ-бы вашей милости, тоже этакій же самый лежалъ. Онъ на меня его приволокъ, говоритъ: «держи его». Ну, я, разумѣется, сталъ держать, наше дѣло подневольное. А самъ-то онъ — пузатый баринъ, то-есть — сейчасъ пошелъ съ Солнцемъ разговаривать. Разговаривалъ, разговаривалъ — и таково мнѣ жарко стало, но только, разумѣется, держу, не выпускаю его свѣтлость. А его свѣтлость, вотъ какъ и ваша милость, бранили меня, бранили, что мужланъ я и ихъ собой запачкалъ. А потомъ, гляжу — стали и они темнѣть и, наконецъ, до того почернѣли, что мнѣ даже смѣшно стало. «Что — говорю — землякъ, хорошо тебѣ рожу вымазали?» А онъ, бѣдняжка, только отвѣтилъ: «землякъ-то — говоритъ — землякъ: самъ я теперь вижу, что я землякъ» А все Зажигательное Стекло. Строгій баринъ!
— Попробовалъ бы онъ со мною сдѣлать что-нибудь подобное! — гнѣвно закричалъ Брилліантъ. — Я бъ его изрѣзалъ во всѣхъ направленіяхъ. Посмѣлъ бы онъ стать между Солнцемъ и мною! Да я бы его...
Брилліантъ такъ распѣтушился, что Зажигательное Стекло проснулось и посмотрѣло на него своимъ равнодушнымъ страшнымъ круглымъ взглядомъ.
— Кто тамъ кричитъ? — освѣдомилось оно.
Брилліантъ взглянулъ на Уголь и горделиво сказалъ:
— Я.
— Кто ты?
— Брилліантъ.
— А, нахалъ! Вотъ подожди, доберусь я до тебя!
Брилліантъ еще сильнѣе раскричался. Онъ посинѣлъ, пожелтѣлъ, позеленѣлъ и побагровѣлъ. Уголь смотрѣлъ на него и вздыхалъ.
— Ты, вѣроятно, не имѣешь никакого представленія, — гремѣлъ Брилліантъ на Зажигательное Стекло: — о моемъ прошломъ! Оно также великолѣпно, какъ великолѣпно мое будущее. Люди поклонялись мнѣ съ тѣхъ поръ, какъ я себя запомню. Я украшалъ собою ушко черной царицы и изъ-за меня англичане воевали съ бурами. Самъ лордъ Чемберленъ зарился на меня…
— Что мнѣ лордъ Чемберленъ! Вотъ подожди, доберусь я до тебя. Охъ, доберусь!
Тутъ Зажигательное Стекло поднялось и, переваливаясь съ бока на бокъ, стало между Солнцемъ и Брилліантомъ.
— Негодное, отойди отъ Солнца, отъ моего величайшаго друга и благодѣтеля! закричалъ Бриллiантъ.
— Другъ твой мнѣ служитъ, — холодно отвѣчало Зажигательное Стекло.
— Мнѣ дѣлается жарко, дай-ка я спрячусь въ твою ямку, — сказалъ Бриллiантъ Углю.
И добродушный Уголь пріютилъ его на своей груди.
— Что дѣлать, ваша свѣтлость, — сказалъ онъ: — видно, и вы моимъ землячкомъ станете.
А Солнце, которое служило у Зажигательнаго Стекла дворникомъ, сдѣлалось маленькимъ, и спустилось въ самую ямку, гдѣ лежалъ Брилліантъ и такъ его припекло, что онъ не вытерпѣлъ и заревѣлъ благимъ матомъ.
— Зачѣмъ ты мучишь меня? — Пощади меня!
— Наука не знаетъ такихъ словъ, какъ мученіе и пощада — она безстрастна, — отвѣчало Зажигательное Стекло.
— Неужели же ты въ самомъ дѣлѣ хочешь, чтобъ я почернѣлъ? И что общаго между мною и этимъ мужикомъ Углемъ?
— Очень много общаго, — отвѣчало Стекло: — вы оба изъ одного тѣста. Только тебя природа долго обрабатывала и ты вонъ, видишь, какимъ сдѣлался щеголемъ и крикуномъ. Успокойся, миленькій, я хочу только на этотъ разъ, чтобъ ты покраснѣлъ и хоть немного приблизился къ Углю.
И въ самомъ дѣлѣ, Брилліантъ сталъ краснѣть. Потомъ онъ былъ вынутъ изъ угля, охлажденъ, и его отнесли въ ювелирную лавку, гдѣ положили рядомъ съ другими брилліантами. Тѣ при каждомъ солнечномъ лучѣ начинали кричать о своихъ достоинствахъ. Но красноватый Брилліантъ велъ себя скромнѣе, потому что сталъ умнѣе. Онъ зналъ теперь многое такое, о чемъ и не снилось тѣмъ невѣжественнымъ и надменнымъ брилліантамъ.
1904.
ЦАРЬ СИЛА И ЦАРИЦА СВОБОДА.
I. Собралъ царь Сила преогромное войско и обложилъ городъ со всѣхъ сторонъ. Окопалъ рвами, поставилъ пушки. Громилъ онъ городъ сорокъ дней и ночей.
II. А въ томъ городѣ была крѣпость, которая, какъ кольцомъ, была окружена широкой рѣкой. Черезъ рѣку перекидывались мосты. Они были подняты до золотыхъ зубцовъ крѣпости, которая была построена изъ бѣлаго, какъ мраморъ, камня, но только твердости необычайной: изъ таинственнаго камня адамантъ.
III. Посреди крѣпости стоялъ дворецъ весь изъ золота съ красной финифтяной крышей.
IV. А во дворцѣ жила дѣва неописанной красоты. У ней была звѣзда во лбу, ходила дѣва въ коронѣ изъ солнечныхъ лучей; и гдѣ ступала тамъ росли фiалки, ландыши и ромашки, розы, и гвоздики и лютики — дорогіе и простые цвѣты.
V. Она была молода и стройна, величава и добра; глаза ея были прекраснѣе дѣтскихъ глазъ.
VI. Свита ея состояла изъ красивѣйшихъ дѣвушекъ и юношей, окружавшихъ ее, какъ звѣзды окружаютъ золотой мѣсяцъ.
VII. Городъ назывался Порядокъ. Широкая рѣка, обвивавшая крѣпость — Вѣчность. Имя царицы было — Свобода.
VIII. Царица поднималась на самую вышку своего дворца и оттуда слѣдила за набѣгами царя Силы и за тѣмъ, какъ ея воины то изнемогали въ битвѣ съ царемъ, то поражали его.
IX. На всемъ необозримомъ пространствѣ развѣвались красныя знамена, которыя или склонялись предъ бѣлыми, или преслѣдовали ихъ.
Х. Гдѣ появлялись войска царя Силы, съ бѣлыми знаменами, тамъ клокоталъ ужасъ, лилась кровь и къ небесамъ летѣли стоны раненыхъ и вздохи умирающихъ.
XI. Прекрасная дѣва въ коронѣ изъ солнечныхъ лучей знала, что несокрушимъ камень адамантъ и что никогда не можетъ быть побѣждена Свобода, ибо Вѣчность — между ею и царствомъ Силы. Свобода была безсмертна, и ей казалась безумною осада Порядка, длившаяся сорокъ дней и сорокъ ночей.
XII. Безсмертной царицѣ было, однако, жаль своихъ людей, потому что, поражаемые и терзаемые палачами и опричниками царя Силы, они навѣки смыкали глаза. Жизнь ихъ погасала, какъ гаснутъ огненныя искры, навсегда разставались они со своими женами и дѣтьми, съ друзьями и братьями, съ солнцемъ и цвѣтами. Они умирали отъ ранъ на берегахъ Вѣчности.
XIII. Свободѣ также было жаль воиновъ царя Силы, потому что они были воспитаны въ слѣпомъ повиновеніи и начальники смотрѣли на нихъ, какъ на пушечное мясо. Граждане Порядка дѣлали вылазки и, въ свою очередь, наносили врагу смертельныя раны, и воины раздавались съ жизнью, проклиная небо и землю и свою злую судьбу, которая обрекла ихъ сначала на голодное прозябаніе въ лагерѣ, и на зуботычины офицеровъ, а затѣмъ лишила ихъ возможности вернуться къ своимъ семьямъ подъ родимый кровъ и еще разъ полюбоваться золотыми переливами поспѣвающей ржи и синими васильками.
XIV. Свободѣ хотѣлось быть царицею всѣхъ людей, всего человѣчества, потому что въ ея владѣніяхъ жизнь текла непринужденнымъ потокомъ. Не было слезъ, потому что не было начальниковъ. Не было грабежей, потому что не было податей. Не было пороковъ, потому что не было лицемѣрія. И блаженство было разлито въ царствѣ Свободы, какъ пурпуръ заката на берегахъ тихо плещущаго моря въ предвечерній часъ.
XV. На сороковой день безпримѣрныхъ боевъ, когда самая рѣка Вѣчности покраснѣла отъ кровавыхъ ручьевъ, ввергавшихся въ нее, чудные глаза неземной дѣвы затуманились. Она собрала своихъ подругъ и товарищей и сказала: «Пора убѣдить царя Силу, что я безсмертна и что не можетъ быть надежды взять мой городъ и разрушить камень адамантъ». Тотчасъ выступилъ впередъ гордый юноша и сказалъ царицѣ: — «я иду къ царю Силѣ». Онъ не взялъ съ собою ни копья, ни самострѣла, а только бѣлый значекъ на золотомъ древкѣ.
XVI. Одновременно царь Сила собралъ военный совѣтъ изъ генераловъ и полковниковъ и сказалъ: — «Надо послать сказать царицѣ Свободѣ, что я буду воевать съ нею не сорокъ дней и сорокъ ночей, а сорокъ лѣтъ и сорокъ вѣковъ, если она не покорится, потому что я буду только тогда счастливъ, когда престолъ свой поставлю на камнѣ адамантъ». Царь сказалъ — и выступилъ молодой полковникъ, которому хотѣлось быть флигель-адъютантомъ. Онъ помчался съ краснымъ значкомъ на древкѣ къ стѣнамъ Порядка.
XVII. Сошлись оба посланца и завязались переговоры. Нѣсколько разъ возвращались посланцы и нѣсколько разъ снова сходились. Обѣ стороны ссылались на безполезность кровопролитія. Царица Свобода требовала мира во имя счастья и блаженства человѣчества. Царь Сила соглашался на миръ, но подъ условіемъ, чтобы ему дозволено было поставить свой тронъ на твердыняхъ адаманта.
XVIII. Свобода, наконецъ, послала сказать царю: «Если Сила овладѣетъ крѣпостью адамантъ, не переходя черезъ рѣку Вѣчности, то его тронъ будетъ поставленъ тамъ, гдѣ онъ захочетъ». Царь разгнѣвался, что ему задаютъ загадки, потому что онъ привыкъ самъ рѣшать всѣ дѣла, даже не обращаясь къ первому министру, и не терпитъ китайскихъ головоломокъ. Переговоры были прерваны, и сломанныя древки парламентерскихъ значковъ одиноко заблестѣли на пустынныхъ пескахъ между городомъ и лагеремъ.
XIX. Между тѣмъ голодный тифъ сталъ гнѣздиться въ лагерѣ Силы. Глубоко ввалились и угрюмо смотрели глаза его воиновъ. Страшные черви выползли изъ могилъ и утоляли жажду, плавая въ солдатской похлебкѣ. Пауки ткали паутину въ дулахъ орудій, потому что порохъ былъ раскраденъ генералами. Англійскіе и нѣмецкіе купцы не хотѣли поставлять Силѣ новыя усовершенствованныя орудія смерти и издали показывали неоплаченные векселя.
ХХ. Бунтовали полки то на одномъ концѣ лагеря, то на другомъ. По ночамъ воинамъ мерещились мирныя желтыя нивы съ звенящими надъ ними жаворонками въ синихъ небесахъ.
XXI. Царь созвалъ военный совѣтъ. Онъ обратился къ генераламъ и полковникамъ съ вопросомъ, что дѣлать. Всѣ подивились, что царь требуетъ совѣта и переглянулись между собой, такъ какъ боялись выказать себя взрослыми людьми, умѣющими самостоятельно думать. Въ царствѣ Силы принято было притворяться дѣтьми и только одного царя считать мудрѣйшимъ. Предполагалось также, что самъ Богъ помазалъ его на царство. Замѣтивъ смушеніе военачальниковъ, царь топнулъ ногой и приказалъ имъ говорить.
ХХІІ. «Великій государь, сказалъ одинъ — тотъ, который уворовалъ порохъ: — дозволь биться съ твоимъ исконнымъ врагомъ до послѣдней капли крови и увѣнчать побѣдою твое оружіе». Другіе присоединились къ мнѣнію похитителя пороха. Нашелся полковникъ, который посовѣтовалъ посадить все войско на воздушные корабли и взять въ плѣнъ царицу Свободу. Наконецъ, царскій казначей, который заложилъ царство заграничнымъ банкирамъ и поэтому былъ богаче царя, сказалъ, что онъ знаетъ характеръ Свободы и что съ нею можно сладить только хитростью и коварствомъ. Хорошо было бы, если бы царь Сила прикинулся влюбленнымъ въ Свободу, послалъ бы ей изъявленіе покорности, и когда она, тронутая его уступчивостью, вышла бы къ нему и протянула руку, схватилъ бы ее и велѣлъ бы засѣчь нагайками, къ концамъ которыхъ привязаны свинчатки.
ХХIII. Царь вспотѣлъ отъ совѣтовъ, которые ему надавали. Больше всѣхъ понравился ему совѣтъ казначея. Но будучи царемъ (у него было много всего и ему незачѣмъ было воровать и обманывать, потому что грабили и обманывали за него офицеры и чиновники), онъ считалъ себя рыцаремъ и подумалъ, что казначей хочетъ, чтобы онъ сдѣлалъ подлость. Отпустивъ приближенныхъ, онъ остался одинъ со своимъ камердинеромъ и когда тотъ раздѣлъ его и положилъ въ постель, онъ разсказалъ о загадкѣ царицы Свободы.
XXIV. Камердинеръ происходилъ изъ крестьянъ; онъ былъ единственный человѣкъ изъ народа хорошо извѣстный царю. Былъ честенъ и никогда не обращалъ въ свою пользу денегъ, находимыхъ имъ въ царскомъ платьѣ, и не вынималъ брильянтовыхъ запонокъ изъ царскихъ сорочекъ. Онъ жилъ при царѣ, какъ песъ.
XXV. Былъ онъ такъ старъ, что годился царю въ отцы. Но царь называлъ его Гришкой. «Гришка, сказалъ царь, лежа въ шелковой палаткѣ на бѣлой, какъ снѣгъ, подушкѣ: — если ты разгадаешь мнѣ загадку царицы Свободы, то проси чего хочешь, я все сдѣлаю и дамъ».
XXVI. Камердинеръ отвѣчалъ: — «Самъ я всѣмъ доволенъ и скоро мнѣ ничего не будетъ нужно, кромѣ бумажнаго вѣнчика на лобъ и могилы. Но я попросилъ бы, чтобы моимъ дѣтямъ и внукамъ, братьямъ и сестрамъ и всему крестьянству была оказана великая милость: перестали бы ихъ топтать, какъ грязь, хуже чѣмъ топтали когда то татары, твои чиновники и генералы».
XXVII. Царь поморщился и проговорилъ: — «Хотя я и царь Сила, но ты забываешь, старикъ, что чиновники и генералы не столько мои слуги, сколько ближайшіе помощники и сообщники. Я бы охотно уволилъ чиновниковъ и распустилъ войско, но меня убьютъ мои приближенные, натравивши на меня какихъ-нибудь безумцевъ, какъ убили моего прадѣда... Однако, я все обѣщаю и будетъ по слову твоему, если только подъ ногами моими зазвенитъ камень адамантъ».
XXVIII. «Такъ выслушай меня, царь, поклонившись, сказалъ старый камердинеръ: — взять крѣпость и золотой дворецъ, въ которомъ живетъ царица Свобода, минуя непроходимую Вѣчность, можно только при помощи открытаго сердца и искренней любви. Полюби Свободу и твой тронъ укрѣпится на камнѣ адамантъ на берегахъ Вѣчности»!
XXIX. Крѣпко задумался царь. Загадка была разгадана камердинеромъ. На другой день царь не вышелъ изъ палатки. Она возвышалась одиноко среди другихъ палатокъ, и царскій флагъ развѣвался надъ нею. Семь дней и семь ночей не выходилъ царь изъ палатки У стараго камердинера, когда онъ показывался у входа, былъ непроницаемый видъ, и генералы и министры не могли добиться отъ него ни слова. Тѣлохранители въ золотыхъ кирасахъ и съ мечами, синими какъ лазурь раскаленнаго неба, стояли вокругъ палатки живою стѣною.
XXX. Прекрасной дѣвѣ Свободѣ доложили, что явился новый парламентеръ и проситъ свиданiя съ нею. При немъ нѣтъ оружія и, кажется, онъ имѣетъ важныя порученiя отъ царя Силы. «Приведите его въ мой золотой дворецъ», сказала прекрасная дѣва Свобода.
XXXI. Вошедшій былъ среднихъ лѣтъ, и поступь у него была, какъ у льва. Подъ одеждой его чувствовались стальные мускулы. Лицо, обложенное курчавой бородой, было мужественно, и большiе глаза заискрились отъ сдерживаемаго восторга, когда онъ представленъ былъ лучезарной Свободѣ.
XXXII. «Я присланъ, сказалъ онъ, изъ лагеря царя Силы съ просьбой допустить мое пребываніе въ замкѣ въ теченіи семи дней и семи ночей, чтобы можно было изучить уставы царства Свободы, ибо слышно у насъ, что во владѣніяхъ царицы ни въ чемъ не нуждаются: солдаты ѣдятъ цыплятъ и пьютъ чай, купцы оживленно торгуютъ и пользуются всемірнымъ кредитомъ, никто никого не обираетъ; театры наполнены веселыми зрителями; процвѣтаетъ литература; тюрьмы обращены, за отсутствіемъ преступниковъ, въ роскошныя богадѣльни для калѣкъ и увѣчныхъ воиновъ».
XXXIII. «А каковы порядки въ царствѣ Силы»? спросила Свобода, устремивъ на воина глаза, которые были чище и прекраснѣе дѣтскихъ. Онъ отвѣчалъ, потупивъ взоръ: — «Въ царствѣ Силы нищета и голодъ. Богатые грабятъ бѣдныхъ, а бѣдные богатыхъ. Войска, оставшіяся въ мирныхъ областяхъ царства, превратились въ поджигателей, растлителей и убійцъ. Полицейскiе участки сотрясаются отъ стоновъ избиваемыхъ. Остановилась торговля. Поблекла литература и замѣнилась хулиганскими листками съ отпечатанными на нихъ окровавленными руками — намекъ на преступность министровъ — правительство съ одной стороны революцiонеры съ другой — призываютъ къ убiйствамъ. Фабричныя трубы не дымятъ, и близко всеобщее разоренiе»…
XXXIV. «Свобода вѣритъ, что ты пришелъ съ добрыми намѣреніями въ ея чертогъ, сказала прекрасная царица. Можешь остаться семь дней и семь ночей и присмотрѣться къ вольнымъ уставамъ нашего царства. За зло у насъ платятъ добромъ».
XXXV. Царица ушла, и на пути ея выросли фіалки, ландыши и ромашки, розы, гвоздики и лютики — дорогіе и простые цвѣты. И сладко запѣли птицы въ лазурныхъ пространствахъ около золотого дворца.
XXXVI. Прошло семь дней и семь ночей.
XXXVII. Рано утромъ проснулся царь и велѣлъ трубить сборъ. Онъ надѣлъ свои лучшіе доспѣхи съ золотой насѣчкой и когда выстроились войска и подскакали къ нему генералы, полковники и разные флигель-адъютанты, онъ обвелъ всѣхъ яснымъ взглядомъ и громко сказалъ тѣмъ царственнымъ голосомъ, который имѣетъ свойство проникать, если царь захочетъ, въ самые далекіе углы и трущобы: — «Простой человѣкъ изъ крестьянъ разрѣшилъ мнѣ загадку, которую задала царица, что тогда поставлю я тронъ свой на камнѣ адамантъ и будетъ онъ окруженъ рѣкой Вѣчности, когда проникну въ крѣпость, не переходя черезъ мосты, а сверху. И вотъ почелъ я за благо соединить царство Силы съ царствомъ Свободы и жениться на прекрасной и безсмертной царицѣ, для чего послать къ ней представителей отъ народа и просить ея руки И пусть у насъ тоже будетъ порядокъ, блаженство и счастье, богатство и торговля, и да процвѣтетъ освобожденное слово и всѣ будутъ равны, и истребится насиліе тамъ, гдѣ до сихъ поръ слышались только стоны и голодъ шелъ объ руку съ нищетой. Да здравствуетъ Свобода!»
XXXVIII. Услыхали генералы-грабители министры-воры и адмиралы-губители царское слово и закричали: «ура» и закричали солдаты «ура»: начальники — потому что привыкли во всемъ наружно соглашаться съ царемъ, а солдаты потому, что отъ царской рѣчи сны о счастьѣ приблизились къ нимъ и повѣяло на нихъ медовымъ запахомъ цвѣтущей ржи, и въ воздухѣ задрожали, какъ серебряные колокольчики, голоса жаворонковъ.
ХХХІХ. Царь удалился въ свою палатку. Осмѣлился къ нему войти казначей и сказать: «Мой совѣтъ пришелся по нраву вашему царскому величеству, и гдѣ не помогаетъ порохъ и мечъ, хитрость лучшее средство». Царь съ гнѣвнымъ презрѣніемъ взглянулъ на казначея. «Оставь меня, сказалъ онъ: — царю не подобаетъ хитрить. Съ тѣхъ поръ, какъ увидалъ я Свободу, я отдалъ ей мое сердце». Опечалился казначей, сталъ пятиться задомъ къ выходу и, пятясь, обдумывать способъ, какъ бы предотвратить царя отъ замышленнаго имъ союза съ Свободой.
XL. Но царское слово — что ласточка — выпустилъ, не поймаешь. Уже облетѣло оно всѣ земли царя Силы и сладостно отозвалось въ сердцѣ каждаго, какъ благовѣстъ на великій праздникъ. И въ иностранныхъ государствахъ услышали его и обрадовались, что царство Силы перестало быть скопищемъ разбойниковъ и казнокрадовъ, народоистребителей и градорушителей, поджигателей, растлителей, невѣждъ и нищихъ, дворянъ и рабовъ; и что по его широкимъ рѣкамъ побѣгутъ суда съ товарами, а унылые граждане запоютъ веселыя пѣсни въ честь Свободы и распустятъ во славу новой царицы красныя знамена на золотыхъ древкахъ.
XLI. И до береговъ Вѣчности донеслось царское слово и услышали его жители Порядка. Вечеромъ они зажгли иллюминацію и бросили въ небо безчисленное множество великолѣпныхъ ракетъ, которыя засылали лагерь царя Силы разноцвѣтными звѣздами.
XLII. И вздрогнули бѣлыя стѣны изъ камня адамантъ. И прекрасная дѣва Свобода почувствовала, какъ сильно забилось ея сердце и остановила на своихъ приближенныхъ затуманившейся взглядъ. Она вспомнила, что почти всѣ цари, въ концѣ концовъ, искали ея руки и клялись ея именемъ, но лишь немногіе изъ нихъ были искренни и не старались ее обмануть. О царѣ Силѣ она слыхала такъ много дурного и столько крови пролилъ онъ, что она боялась союза съ нимъ.
XLIII. Впрочемъ, когда на другой день царь Сила послалъ парламентера въ крѣпость сказать царицѣ, что онъ хочетъ ее видѣть и проситъ съѣхаться съ нимъ съ глазу на глазъ на полосе Недосягаемости, отдѣлявшей его царство отъ царства Свободы, прекрасная дѣва исполнила его просьбу: годный конь, легкій какъ утреннее облако, понесъ царицу Свободу навстрѣчу царя Силы, который мчался на конѣ, темномъ, какъ дождевая туча.
XLIV. «Я полюбилъ тебя, царица, и ты должна быть моею женою!» вскричала Сила. И прекрасная дѣва улыбнулась небесной улыбкой: она узнала въ царѣ воина, который семь дней и семь ночей провелъ въ ея чертогахъ.
XLV. Преданіе гласитъ, что царь Сила женился на царицѣ Свободѣ и поставилъ свой тронъ на камнѣ адамантъ. Онъ былъ изъ немногихъ царей, не обманувшихъ прекрасную дѣву. Исторія поэтому простила ему его прежнія преступленія. Исторiя цѣнитъ искренность — она незлопамятна.
1906.
[1] Такъ проходитъ мірская слава. (лат.) – Въ исходномъ изданіи переводъ отсутствуетъ. – Примѣчаніе издателя.
Загрузить текст произведения в формате pdf: Загрузить безплатно
Наша книжная полка въ Интернетъ-магазинѣ ОЗОН,
въ Яндексъ-Маркетѣ, а также въ Мега-Маркетѣ (здѣсь и здѣсь).