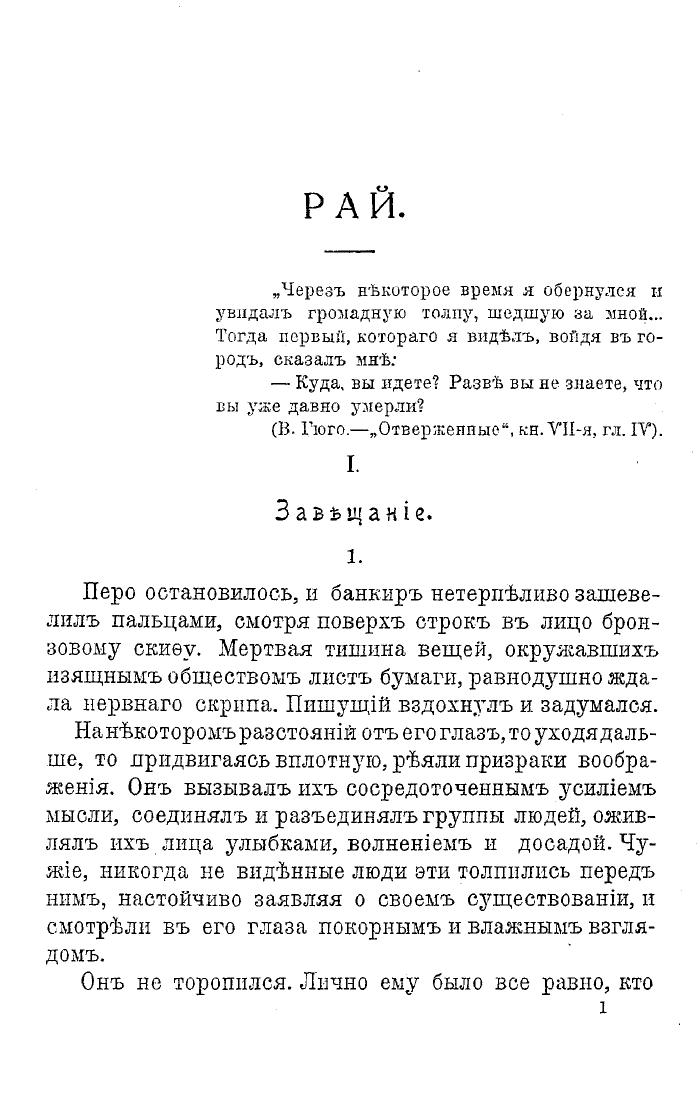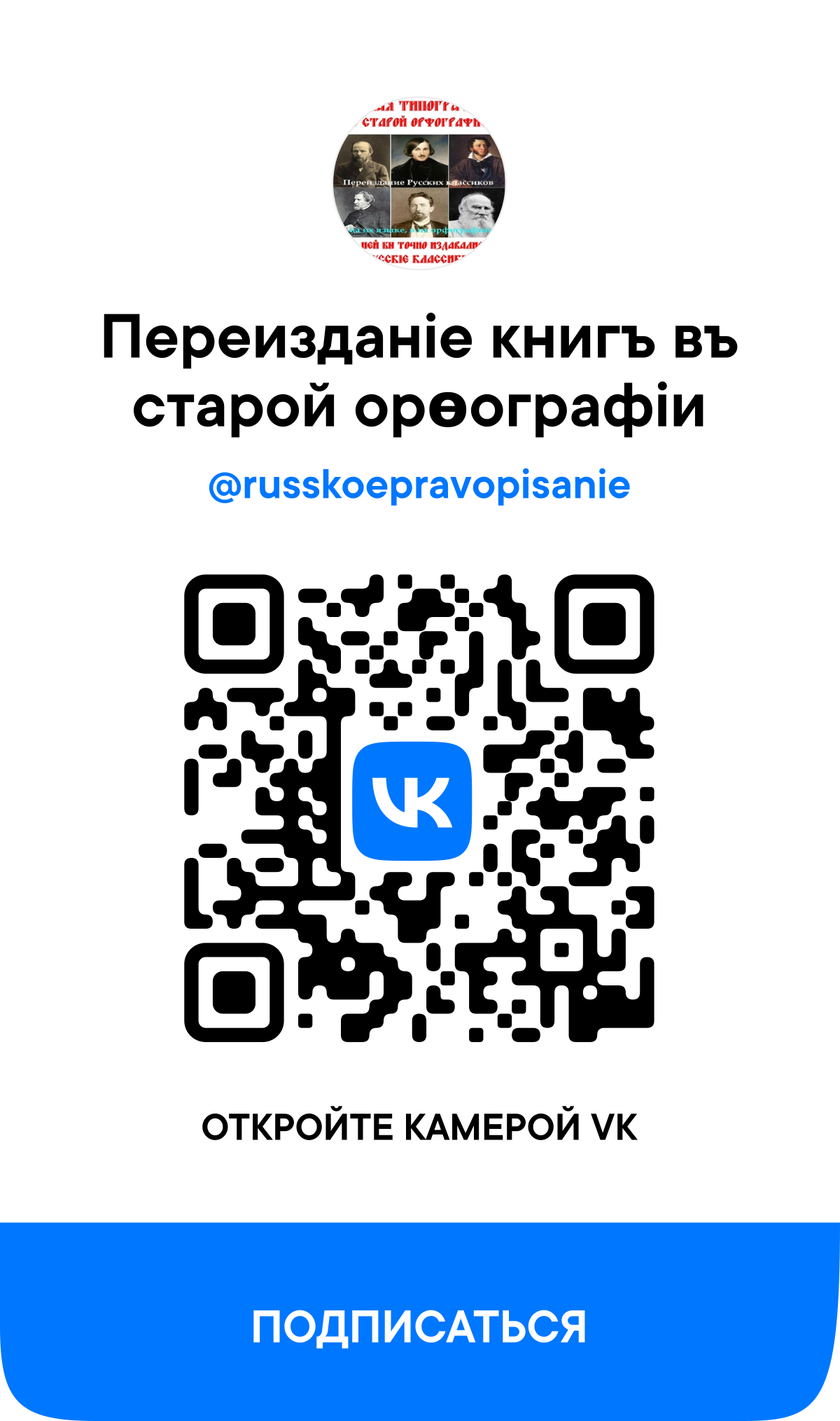А. С. Гринъ.
РАЗСКАЗЫ.
ТОМЪ ПЕРВЫЙ.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Книгоиздательство «ЗЕМЛЯ».
Типографія В. Безобразовъ и Ко. В. О., Большой пр., 61.
1910.
РАЙ.
«Черезъ нѣкоторое время я обернулся и увидалъ громадную толпу, шедшую за мной... Тогда первый, котораго я видѣлъ, войдя въ городъ, сказалъ мнѣ:
— Куда, вы идете? Развѣ вы не знаете, что вы уже давно умерли?
(В. Гюго — «Отверженные», кн. ѴІІ-я, гл. IV).
I.
Завѣщаніе.
1.
Перо остановилось, и банкиръ нетерпѣливо зашевелилъ пальцами, смотря поверхъ строкъ въ лицо бронзовому скиѳу. Мертвая тишина вещей, окружавшихъ изящнымъ обществомъ листъ бумаги, равнодушно ждала нервнаго скрипа. Пишущій вздохнулъ и задумался.
На нѣкоторомъ разстояніи отъ его глазъ, то уходя дальше, то придвигаясь вплотную, рѣяли призраки воображенія. Онъ вызывалъ ихъ сосредоточеннымъ усиліемъ мысли, соединялъ и разъединялъ группы людей, оживлялъ ихъ лица улыбками, волненіемъ и досадой. Чужіе, никогда не видѣнные люди эти толпились передъ нимъ, настойчиво заявляя о своемъ существованіи, и смотрѣли въ его глаза покорнымъ и влажнымъ взглядомъ.
Онъ не торопился. Лично ему было все равно, кто наслѣдуетъ громадное состояніе, и онъ тщательно перебиралъ различныя нужды человѣчества, стараясь заинтересовать себя въ употребленіи денегъ. Родственниковъ у него не было. Благотворительность и наука, открытія и изобрѣтенія, преміи за добродѣтель и путешествія — проникали въ сознаніе затасканными словами не трогая любопытства и жалости. Банкиръ закусилъ губу, рѣзко перечеркнулъ написанное и перевернулъ листъ слѣдующей, чистой страницы.
Другія, насмѣшливыя мысли подсунули ему кучу эксцентрическихъ рѣшеній, чудачествъ, прихотей и капризовъ. Изобрѣтеніе механической вилки, улучшеніе породы кроликовъ, перпетуумъ-мобиле, лексиконъ обезьяньяго языка — множество безполезныхъ вещей, на которыя ушло бы все состояніе. Но, едва родившись и кутаясь въ холодную пустоту души, мысли эти гасили свои измученныя улыбки: нужно было много хлопотъ и серьезнаго размышленія надъ пустяками, чтобы завѣщаніе, составленное такимъ образомъ, получило значеніе документа.
Банкиръ сдѣлалъ рукой, державшей перо, нетерпѣливое движеніе и написалъ снова:
«Я, нижеподписавшійся, находясь въ здравомъ умѣ и твердой памяти, завѣщаю все мое состояніе, движимое и недвижимое...»
Далѣе былъ тупикъ, въ которомъ уныло толклась мысль, превращая послѣднее дѣло жизни въ простое желаніе развязаться съ листомъ бумаги. Завѣщать было некому, и медленно сокращалось сердце, вялое, какъ измученная рука. За окномъ румянился вечеръ, цѣлуя землю, и прозрачныя стекла горѣли золотымъ блескомъ, открывая даль, полную спокойнаго торжества.
Банкиръ сталъ прислушиваться къ себѣ, улыбаясь и хмурясь, какъ ребенокъ, встряхивающій разбитую погремушку. Наклонивъ голову, съ разсѣяннымъ и сухимъ лицомъ мурлыкалъ онъ когда-то любимые мотивы, пѣсни и аріи, но дѣланно звучалъ голосъ. Банкиръ кивнулъ головой; въ прошломъ жизнь бросала ему раны и поцѣлуи, ихъ сладкая боль насѣкала морщины вокругъ глазъ, и жадно смотрѣли глаза. Память высыпала яркіе вороха, онъ сумрачно смотрѣлъ въ нихъ, пораженный обиліемъ маленькихъ труповъ, — минувшихъ радостей. Крошечныя руки ихъ тянулись къ его лицу, гладкому, сытому лицу человѣка, уже смѣрившаго глазами короткое разстояніе между жизнью и смертью. Прошлое превратилось въ воздухъ, обступило письменный столъ, блеснуло въ лакѣ шкатулокъ, набитыхъ письмами, въ мраморной наготѣ статуй, легло ковромъ подъ ногами, встало у двери и послѣднимъ короткимъ эхомъ замерло въ напряженной душѣ.
Банкиръ тяжело осмотрѣлся и медленно подвергъ нервы страшной пыткѣ насилія, но не было волненія и тревоги, злобы и нѣжности. Ясное, лѣнивое сознаніе кропотливо удерживало боль тоскливыхъ усилій, отказываясь страдать безъ цѣли и идти безъ конца. Хлынуло тяжелое утомленіе, спутало мысли и заковало голову въ тѣсный, стальной обручъ.
Итакъ, онъ ничего не напишетъ. Потомъ, можетъ быть, послѣзавтра, многіе станутъ удивляться неоконченнымъ строкамъ завѣщанія, торопливо предполагая все, вплоть до желанія оставить деньги правительству. Человѣконенавистники обвинятъ его въ черствости и легкомысліи, нищая добродѣтель создастъ ему репутацію атеиста. И никто не узнаетъ, что добросовѣстно, цѣлыхъ полтора часа онъ размышлялъ о своемъ завѣщаніи. Куда уйдутъ деньги, — ему безразлично до отвращенія. Обмануть себя онъ не можетъ такъ же, какъ не можетъ отрѣзать себѣ голову. Ясное, мертвое равнодушіе — послѣдняя истина его жизни; раньше ихъ было слишкомъ много, этихъ старыхъ, молодящихся истинъ съ восторженными глазами. Всѣ онѣ безсмысленно клеветали другъ на друга, какъ разобиженныя кумушки. Довольно истинъ и лжи, одно стòитъ другого.
Банкиръ всталъ и хотѣлъ выйти, но вдругъ остановился, протянулъ руку къ индусской вазѣ, подарку своей первой жены, и мѣрнымъ, разсчитаннымъ движеніемъ сбросилъ на полъ десятки тысячъ. Огромный сосудъ сверкнулъ въ воздухѣ массивнымъ, прекраснымъ въ полудикой наивности своей — узоромъ и глухо треснулъ, разлетѣвшись въ куски, какъ простой горшокъ. Банкиръ отбросилъ ногой острые черепки и вышелъ изъ кабинета.
2.
Пустыя залы, проникнутыя суровымъ молчаніемъ, услышали звукъ шаговъ. Плотный, неповоротливый человѣкъ, съ черными волосами и желтымъ сухимъ блескомъ тщательно выбритаго лица, шелъ тяжелой походкой, опустивъ голову.
По дорогѣ онъ останавливался у каждой двери и медленно нажималъ кнопки. Тотчасъ же, вслѣдъ за движеніемъ его руки, вспыхивало электричество, и, мигнувъ, разлетался мракъ, уходя въ стѣны.
Такъ прошелъ онъ залу за залой, почти весь отель, безъ размышленія и улыбки. Взглядъ его бѣгло переходилъ съ предмета на предметъ, — все здѣсь было слишкомъ знакомо его утомленному вниманію. Первая зала, въ которую онъ вступилъ, горѣла разноцвѣтнымъ шелкомъ, яшмой и золотомъ. Пухло улыбались диваны, пестрѣли ковры, чинно блестѣло оружіе; изъ маленькихъ, свѣтлыхъ курильницъ тянулись дымки, синѣя въ желтизнѣ свѣта, и мертвая, пышная тишина кружила голову.
Слѣдующая, круглая зала, въ голубомъ заревѣ люстръ — жеманно кокетничала. Живопись восемнадцатаго столѣтія, легкая, какъ хороводъ бабочекъ на весенней лужайкѣ, — скрывала стѣны и потолокъ, устроенный въ видѣ купола. Розовые бѣлокурые пажи, красавицы въ высокихъ прическахъ и голубыхъ туфляхъ; маркизы въ жабо, со шпагами и лютнями, посылали другъ другу обворожительныя, на вѣки застывшія улыбки. Надъ ними, разбрасывая гирлянды цвѣтовъ, кувыркались толстенькіе амуры, и мебель, полная живыхъ изгибовъ, отражала матовымъ блескомъ голубой свѣтъ.
Далѣе тянулся рядъ залъ, выдержанныхъ въ блѣдныхъ тонахъ. Блѣдный паркетъ, бѣлыя лѣпныя украшенія, изящная вольность линій, закругленность въ ассиметріи, прихотливость въ законченности, капризъ, продуманный до конца. Стремительный человѣческій духъ отбрасывалъ жизненный колоритъ прошлаго и грезилъ красотой умиранія, нѣжной, какъ вѣки ангеловъ, какъ радуга лѣсныхъ паутинъ.
Потомъ яркая зелень растеній спуталась надъ банкиромъ. Сверху, снизу, изъ многочисленныхъ лѣпныхъ консолей падали зеленые, цвѣтущіе вороха, ложась на полу и вытягиваясь струйками завитковъ. Пышная растительность всѣхъ оттѣнковъ; пряная сырость оранжереи; пахучая красота сада; солнце тропиковъ въ каплѣ воды; воздухъ, затканный листьями. Квадратный бассейнъ, выложенный розовымъ мраморомъ, блестѣла, темной водой; отраженія толпились въ ея глубинѣ подводными орхидеями, тюльпанами и розами. Горбатый серебряный тритонъ купался, высунувъ голову, и звонкія капли текли изъ его пасти, колыхая мгновеннымъ плескомъ дремоту воды.
Банкиръ разсѣянно осмотрѣлся, новая мысль затрепетала въ его мозгу, мысль — похожая на благодѣяніе и проклятіе. Любовно, ревниво обдумалъ онъ закипающее рѣшеніе, тщательно провѣривъ цѣпь мыслей съ начала и до конца:
... «Яркій свѣтъ заставляетъ мигать; безсознательное движеніе. Всѣ люди мигаютъ. Часто мигающіе тупы и подозрительны. Птицы не мигаютъ, у нихъ круглые, внимательные глаза. Не мигаютъ слѣпые. Слѣпота изощряетъ слухъ. Слѣпые не видятъ, но догадываются, и это отражается на ихъ лицѣ. Слѣпыхъ слѣдуетъ убивать. Слѣпые почти никогда не убиваютъ себя, изъ жалости къ себѣ они продолжаютъ существовать и мстятъ этимъ также, какъ и уроды, калѣки — всѣ, оскорбленные съ ногъ до головы своимъ духомъ и тѣломъ»...
Банкиръ отправился въ кабинетъ, сѣлъ къ столу и ровнымъ крупнымъ почеркомъ приписалъ слѣдующее:
— ... мѣстному жителю, человѣку, лишенному рукъ и ногъ отъ природы или въ силу случайности; независимо отъ его званія, имени, общественнаго положенія, пола и національности; самому молодому изъ всѣхъ, не имѣющихъ означенныхъ членовъ — въ его полное и безконтрольное распоряженіе.
Онъ бросилъ перо, перечиталъ написанное и въ первый разъ послѣ угрюмыхъ дней скуки разсмѣялся лѣнивымъ, груднымъ смѣхомъ.
_______________
II.
Любители хорошо поѣсть.
Когда всѣ усѣлись и глаза каждаго встрѣтились съ глазами остальныхъ участниковъ торжества, — наступило молчаніе. Замерли незначительныя, стыдливо отрывистыя фразы. Шевелились головы, руки, принимая то или другое положеніе, но не было словъ, и скучная тишина покрыла черты лицъ сдержанной блѣдностью.
Всѣ пятеро: четверо мужчинъ и одна женщина сидѣли за круглымъ, торжественно бѣлымъ столомъ, въ обширной высокой комнатѣ. Электрическій свѣтъ падалъ на серебро, хрусталь бокаловъ, цвѣты и маленькими, радужными пятнами льнулъ къ скатерти.
Потомъ, когда молчаніе сдѣлалось тягостнымъ и нервныя спазмы подступили къ горлу, а ноги невольно начали упираться въ полъ; когда неодолимая потребность стряхнуть мгновенное оцѣпенѣніе возвратила живую краску лицъ, — банкиръ сказалъ:
— Надѣюсь, что время пройдетъ весело. Никто не можетъ намъ помѣшать. Какъ вы спали сегодня?
Слѣды безсонной ночи еще не растаяли на его желтомъ, осунувшемся лицѣ, и человѣкъ, къ которому относился вопросъ, глухо отвѣтилъ:
— Спалъ неважно, хе-хе... Да... Совсѣмъ плохо. Такъ же, какъ и вы.
— А вы? — обратился хозяинъ къ женщинѣ, сидѣвшей прямо и неподвижно, съ пылающимъ отъ болѣзненной силы мысли лицомъ. — Вы, кажется, хорошо спали, вы розовая!
— Да... Я... благодарю васъ.
— А вы? — Банкиръ съ мужествомъ отчаянія поддерживалъ разговоръ. — Странно — меня это интересуетъ. Ничего?
— Извините, — чужимъ, тонкимъ голосомъ сказалъ офицеръ: — я буду молчать. Я не могу разговаривать.
— Хорошо, — любезно согласился банкиръ, — но предоставьте мнѣ поддерживать разговоръ, это необходимо. Увѣряю васъ — мы должны говорить. О чемъ хотите, все равно. Мнѣ пріятно слушать собственный голосъ. Отчего вы такъ потираете руки, вамъ холодно?
— Хе, хе, — встрепенулся бухгалтеръ. — А вы замѣтили? Напротивъ, мнѣ жарко.
— Вотъ меню обѣда, — сказалъ хозяинъ, — надѣюсь, оно удовлетворитъ васъ... Всѣ вздрогнули... Я шучу, господа... тсс... постараюсь воздержаться. Раковый супъ, напримѣръ... Спаржа, утка съ трюфлями, бекасы и фрукты. Скромно, да, но приготовлено съ особой тщательностью. Опять всѣ молчатъ. Говорите, господа!.. Говорите, господа!..
— Ну, — скажу вамъ, что я не чувствую себя — заявила женщина. Это не пугаетъ, но непріятно. Нѣтъ ни рукъ, ни ногъ, ни головы... точно меня передѣлали заново, и я еще не привыкла упражнять свои члены. И я думаю бѣгло, вскользь, тупыми, жуткими мыслями.
— Вотъ принесутъ кушать, — сказалъ бухгалтеръ, — и все пройдетъ. Ей Богу!
— У всѣхъ трясутся руки и губы, — неожиданно громко заявилъ офицеръ. — Господа, я не трусъ, но вотъ, напротивъ, въ зеркалѣ, вижу свое лицо. Оно совсѣмъ синее. Мы сойдемъ съ ума. Я первый начну бить тарелки и выть. Хозяинъ!
Банкиръ поднялъ брови и позвонилъ. Лакей съ наружностью дипломата безшумно распахнулъ дверь, и лица всѣхъ торопливо окаменѣли, какъ вода, схваченная морозомъ. Фарфоръ, обвѣянный легкимъ паромъ, бережно колыхался въ рукахъ слуги; онъ несъ кушанье, выпятивъ грудь, и вдругъ шаги этого человѣка стали тише, неровнѣе, какъ будто кто-то тянулъ его сзади за фалды. Онъ медленно, трясущимися руками опустилъ кушанье на середину стола, выпрямился, побѣлѣлъ и отступилъ задомъ, не сводя круглыхъ, оцѣпенѣвшихъ глазъ съ затылка бухгалтера.
— Уходите! — сказалъ банкиръ, играя брелокомъ. — Вы нездоровы? Сегодняшній день въ вашемъ распоряженіи. Вы свободны. Что жъ вы стоите? Что вы такъ странно смотрите, чортъ побери!?
— Я...
— Я разсчитываю васъ. Молчать! Управляющій выдастъ вамъ жалованье и паспортъ. Вонъ!
Лакей вышелъ, и всѣ почувствовали странное, глубокое облегченіе. Краска медленно исчезла съ побагровѣвшаго лица хозяина. Онъ виновато пожалъ плечами, подумалъ и заговорилъ:
— Ушелъ, наконецъ! Не обращайте вниманія, господа, мое послѣднее путешествіе продолжалось такъ долго, что слуги забыли свои обязанности. Никто не потревожитъ насъ. Попробуйте это вино, сударыня. И вы, капитанъ... Позвольте, я налью вамъ. Рекомендую попробовать также это, оно слегка заостряетъ мысли. Затѣмъ можно перейти къ болѣе буйнымъ сортамъ. Вотъ старое итальянское, отъ него пріятно кружится голова и розовый свѣтъ туманитъ мозгъ. Посмотри-ка сквозь стекло, я вижу тамъ солнечные виноградника Этны. Эти угрюмыя бутылки не должны смущать ваше милое лицо, принцесса: подъ наружностью театральнаго злодѣя у нихъ ясная и открытая душа. Я лично предпочитаю вотъ тотъ археологическій ликеръ: вдохновенное опьянѣніе, въ которомъ начинаетъ звучать торжественная и мрачная музыка. Чокнемся, господа!
Руки соединились и стаканы вскрикнули маленькимъ, осторожнымъ звономъ... Вино блеснуло, точно въ немъ судорожно бились крошечныя, золотыя рыбки и разноцвѣтные зайчики скользнули по бѣлизнѣ скатерти.
Журналистъ вынулъ платокъ, тщательно протеръ очки, надѣлъ ихъ и внимательно посмотрѣлъ на жидкость. Она невинно горѣла передъ нимъ въ тонкомъ стеклѣ ровнымъ, краснымъ кружкомъ. Женщина, молча, усиленно проглатывая, выпила все до послѣдней капли; глаза ея смотрѣли поверхъ бокала, темные, ласковые глаза. Капитанъ выпилъ раньше всѣхъ. Бухгалтеръ нервно хихикалъ и потиралъ руки, ознобъ леденилъ его. Банкиръ сказалъ:
— Вино порядочное. Возьмите на себя роль хозяйки, сударыня!
Женщина вспыхнула и нерѣшительно протянула руку. Капитанъ отвѣсилъ ей глубокій поклонъ.
— Изъ вашихъ рукъ, сударыня?
Глаза его тяжело смотрѣли въ растерянное молодое лицо. Дѣвушка не нашлась, что отвѣтить, пальцы ея выразительно пошевелились; казалось, это была просьба молчать. Только молчать. Ни слова о неизбѣжномъ. Развѣ не знаетъ онъ, что эти руки нальютъ и себѣ.
— Позвольте вашу тарелку, — тихо сказала дѣвушка.
Три слова брызнули ударомъ хлыста въ перекошенныя подступающей судорогой лица. Кто-то задѣлъ посуду, и мягкій звонъ поплылъ въ тишинѣ комнаты. Стихъ онъ, и молчаніе сдѣлалось шумнымъ отъ быстраго дыханія обѣдающихъ. Одежда тѣснила и жгла тѣло, хотѣлось сорвать ее; кровь стремительно ударяла въ мозгъ, все плыло и качалось передъ глазами. Непостижимое единство ощущеній спаяло всѣхъ; казалось, изъ сердецъ ихъ протянулись слѣпыя щупальцы и цѣпко сплелись другъ съ другомъ. Рты съ шумомъ выбрасывали воздухъ, ноги дрожали и ныли. Надъ столомъ двигались женскія руки, и тарелка за тарелкой возвращалась на свое мѣсто, полная до краевъ.
— У васъ все сильнѣе блестятъ глаза, — сказалъ бѣлый, какъ молоко, журналистъ. — Вы, конторскій червь, — когда вы перестанете глупо смѣяться? Вѣдь это ужасно! У меня пропалъ аппетитъ, благодаря вамъ. Ну, вотъ, слава Богу!..
Бухгалтеръ визгливо рыдалъ, уткнувшись въ салфетку. Лица его не было видно, но затылокъ подпрыгивалъ, какъ резиновый, и всѣ, затаивъ дыханіе, смотрѣли на гладко остриженную, плясавшую отъ безумнаго плача голову. Капитанъ громко свистнулъ, онъ не выносилъ нервныхъ людей.
И вдругъ всѣ засуетились, безцѣльно, съ тупымъ состраданіемъ уговаривая бухгалтера. Дѣвушка схватила его мокрую, вялую руку и, стиснувъ зубы, сжала изо всѣхъ силъ побѣлѣвшими отъ усилія пальцами.
— Если вы будете плакать, — сказалъ капитанъ, — я брошу въ васъ хлѣбнымъ шарикомъ. Смотрите, я уже скаталъ. Онъ плотный и пробьетъ вамъ черепъ, какъ пуля.
Жалкій, убитый видъ бухгалтера портилъ обѣдъ, и злобная жалость закипала въ сердцахъ, полныхъ отчаянія. Журналистъ гнѣвно кусалъ ногти. Хозяинъ сказалъ:
— Господа, это же такъ естественно! Оставьте его!
— Слышите, молодой старичокъ? — продолжалъ капитанъ. Я цѣлюсь! Постыдитесь дамы! Нехорошо!
Бухгалтеръ поднялъ голову и разсмѣялся сквозь слезы. Теперь онъ походилъ на маленькаго, загримированнаго мальчика, съ фальшивыми бородой, морщинами и усами.
— Удивительно! — шепнулъ онъ. — Какая слабость! Простите меня!..
Снова придвинулась тишина и чьи-то пальцы хрустнули подъ ея гнетомъ, рѣзко и противно, какъ сломанные. Журналистъ взялъ ложку и сталъ ѣсть, сосредоточенно, быстро, съ глазами, опущенными внизъ. Когда онъ жевалъ, уши его слегка шевелились.
— Замѣчательный супъ! — вздохнулъ онъ, придвигая тарелку ближе. — Меня огорчаетъ то, что я ѣмъ насильно. Впрочемъ, — немного вина, и все уладится. А! съ удовольствіемъ вижу, что всѣ послѣдовали моему примѣру. Я, кажется, слегка пьянъ. Знаете, что больше всего мнѣ нравится въ васъ, сударыня? Что ваша порція съѣдена. Мои нервы натягиваются, въ головѣ крылья... Безумно хочется разговаривать... И потомъ — вы такъ граціозно щиплете хлѣбъ... Я увѣренъ, что у меня веселое лицо. Всѣ краснѣютъ; работаютъ невидимые маляры... Кто засмѣется первый. Улыбнитесь, мадемуазель! Не такъ, это улыбка мертвеца. Улыбнитесь кокетливо! Мерси. Господа! Я, какъ будто, никогда, никогда не говорилъ! Представьте себѣ такое ощущеніе... Капитанъ, удержите ваши глаза, они подозрительно круглѣютъ... Я, вообще, долженъ много сказать... Браво, господинъ конторщикъ, вы такъ энергично тряхнули головой и вытираете губы вашей заплаканной салфеткой!.. Мнѣ кажется, что вы ниже меня... нѣтъ, нѣтъ, не спорю!.. Я, можетъ быть, счастливъ... О чемъ вы думаете, хозяинъ?
— Слѣжу за собой, — отчетливо произнесъ банкиръ. — Мнѣ весело, увѣряю васъ. Такъ вотъ, вдругъ ударило въ голову и стало весело... Да, представьте себѣ. Я могу летать... Правда, неуклюже летать, но все таки могу. Богъ со мной, здѣсь. Я чувствую Его подавляющее присутствіе. Онъ наполняетъ меня. Я весь изъ массивнаго, литого золота. Всѣ вы сидите отъ меня страшно далеко.
— Вы всѣ милые, — неожиданно ввернула дѣвушка. — Вотъ вамъ! Боюсь я? Нѣтъ, ни капли!
— И я! — сказалъ бухгалтеръ.
— И я!.
— И я!.
— И я!.
— Господа!... — крикнулъ капитанъ, прикладывая руку къ груди. — Мнѣ хочется что-то сказать вамъ. Но я не могу, простите!.. Братья! Есть вѣчность?..
— Объ этомъ подумаемъ завтра, — сказалъ хозяинъ.
— Онъ сказалъ — «завтра!» — подхватила дѣвушка. — Вы слышите, господа? «Завтра»!..
— Ха—ха—ха—ха—ха!..
— Хо—хо!..
— Хе—хе—хе!., хи—ххи!..
— Вы удивительный человѣкъ, хозяинъ!.. — кричалъ журналистъ. — Мы хотимъ кушать, слышите? Тащите намъ жаренаго бегемота!.. Не откладывайте до завтра! Работай челюстями! Шевелись, старый отравитель, распоряжайся, капризникъ!..
Журналистъ ласково подмигнулъ хозяину и положилъ руки на колѣни, стараясь прекратить ихъ быструю дрожь. Бухгалтеръ пугливо улыбался, ворочался, напѣвалъ сквозь зубы и часто вздыхалъ. Другой лакей принесъ смѣну блюдъ, поставилъ и удалился.
Теперь ѣли развязно, машинально и быстро. Взрывы хохота наполняли воздухъ, веселая истерика трясла грудь, пылали лица и громкій, спутанный разговоръ сверлилъ уши страстными, взволнованными словами.
— Разскажите намъ, — говорилъ банкиръ, обращаясь къ дѣвушкѣ, — разскажите что-нибудь о себѣ... Вамъ есть что разсказать, вы жили такъ мало. Мое прошлое велико, я часто путаюсь въ немъ, брежу и сочиняю... Кто захотѣлъ бы жить съ отчетливымъ до минутъ грузомъ прошлаго? Слабая память — спасеніе человѣка... Онъ вѣчно передѣлываетъ себя въ прошломъ... Разскажите про вашъ короткій весенній путь... Мнѣ кажется, что вы еще любите молоко, парное, съ запахомъ сѣна, а?...
— Я жила просто, — сказала дѣвушка, — но прежде уберите ваши глаза, они такъ непріятно налились кровью... Знаете, я думаю, что я безсмертна!.. Вы слышите, какой у меня звонкій голосъ? Какъ маленькій рожокъ. И онъ замолчитъ? Нѣтъ, тутъ что-то не такъ!.. Вотъ, всѣ смотрятъ на меня и улыбаются. Ну, что же, господа, — вы расшевелили меня! Я много болтаю... Я, можетъ быть, даже пьяная, но я вотъ нахмурюсь сейчасъ, и вы увидите... Ахъ, господинъ журналистъ, знаете, вы похожи на разгоряченнаго пѣтуха!.. А вы, капитанъ, не притворяйтесь волкомъ, вы очень добры. Я, кажется, говорю комплименты!? Ничего не будетъ, я увѣрена въ этомъ... То есть я просто таки не вѣрю, что умру!
Покрывая ея голосъ, заговорилъ капитанъ, и странно тяжелы были его слова, какъ будто держали человѣка за горло и сдавливали его каждый разъ въ концѣ слова, заставляя проглотить окончаніе. И всѣ почувствовали инстинктомъ, что капитанъ борется съ ужасомъ, почувствовали и стали безмысленными, какъ воздухъ, и легкими, какъ сухой снѣгъ. Тошнота защекотала внутренности, мозгъ кричалъ и ломился въ изгибы черепа, и глухо нылъ черепъ.
— Я облокачиваюсь на столъ, — сказалъ капитанъ. — Смотрите, каковъ я! Я еще чувствую себя. Слышите! Помолчите... одинъ уходитъ... Лѣвой... ноги... у меня... нѣтъ... Какіе мы странные… больные... несчастные... Я хорошо... понимаю... что.. на лицо... мое... страшно.. смотрѣть... Внутри... у меня... гудитъ... Электричество гаснетъ... потому что... темно. Я... боюсь!.. Ваши лица.. темнѣютъ отъ... ужа...са. О... подождите... минутку!.. Улы...байтесь, какъ... можно... пріятнѣе! Во мнѣ... тысяча пудовъ. Я не могу... пошевелить... пальцемъ... Я противенъ себѣ... Я — ... туша. Вся... моя... одежда... отравлена... Вы...
Онъ умолкъ, тщетно ворочая коснѣющимъ языкомъ. Ядъ медленно проникъ въ мускулы, парализовалъ ихъ и послѣдней, уродливой гримасой застылъ на пораженномъ лицѣ. Проблескъ жизни еще обволакивалъ вылѣзшіе наружу глаза, но уже каждый чувствовалъ, что сидятъ четверо.
Тогда дикая волна ужаса потрясла живыхъ и нечеловѣческимъ воемъ застряла въ горлѣ бухгалтера. Онъ всталъ, теряя равновѣсіе, упалъ, какъ срѣзанная трава, къ ногамъ банкира, хватаясь непослушными пальцами за ножки стульевъ. Жизнь рвалась прочь изъ маленькаго тщедушнаго тѣла, и онъ инстинктивно пытался удержать ее, усиливаясь подняться. Наконецъ, мракъ схватилъ его за горло и удушилъ, съ хрипѣньемъ и вздохами.
Женское лицо склонилось надъ журналистомъ, бѣлое и мокрое. Онъ прогналъ отвратительное оцѣпенѣніе смерти и отвѣтилъ безсмысленнымъ хохотомъ идіота, тупо моргая вѣками.
— И я такъ? И я? — рыдала дѣвушка. — О, мое лицо, мое красивое лицо!.. Я укушу васъ!.. Они валяются на коврѣ, что же это!? Уйти мнѣ?.. На воздухъ, а?.. Мнѣ легче будетъ, а?.. Слышите?.. Слышите ли вы!?..
— Я слышу вашъ голосъ, — сказалъ журналистъ, насилу выговаривая слова. — Если это вы, та подстрѣленная дѣвушка, что сидѣла противъ меня, то ступайте въ гостиную п прилягте. Уйдите въ другую комнату, здѣсь нехорошо. Я — послѣдній человѣкъ, котораго вы слышите. Ступайте!..
Онъ снова погрузился въ забытье и, когда очнулся, глаза его смутно припоминали что-то. Банкиръ сидѣлъ рядомъ, выпятивъ грудь и закинувъ почернѣвшую голову на спинку стула; руки свѣсились, стеклянные, незнакомые глаза смотрѣли на потолокъ.
— Вотъ сонъ! — сказалъ журналистъ. — Была еще дѣвушка, но она ушла. Я, кажется, покрѣпче этихъ. Кто-то разбилъ мнѣ голову, она болитъ, какъ чудовищный нарывъ. Я живъ еще, что немного нахально съ моей стороны. Вонъ, подъ столомъ торчатъ ноги конторщика. А капитанъ спитъ крѣпко, — фу, какъ онъ выглядитъ!.. Противная штука — жизнь. Противная штука — смерть!.. Что, если я не умру?..
Липкій потъ выступилъ на его лицѣ; онъ всталъ и сѣлъ снова, дрожа отъ слабости. Мысли тоскливо путались, отрава глушила ихъ и хотѣлось смерти. Сердце металось, какъ умирающій въ агоніи человѣкъ; предметы мѣняли очертанія, расплывались и таяли.
— Милые трупики, — сказалъ журналистъ, — я нѣжно люблю васъ!.. Вонъ ту дѣвушку мнѣ хотѣлось бы прижать къ сердцу... Милые мертвецы! Я люблю ваши отравленныя, несговорчивыя души!.. И я вру, что вы обезображены, нѣтъ!.. Вы красавцы, просто прелесть какіе!.. Ну, да, вы не можете. Позвольте, мнѣ тоже что-то нехорошо... Тошнитъ... Все кончено. Ничего нѣтъ, не было и не будетъ...
Онъ пересталъ шептать и, чувствуя приближеніе смерти, легъ на коверъ ничкомъ, вытянувшись во весь ростъ. Жизнь медленно оставляла его желѣзный организмъ. Журналистъ поворочался еще немного, но скоро затихъ и умеръ.
Столовая опустѣла. Люди не выходили изъ нея, но ушли. Холодный электрическій свѣтъ заливалъ стѣны; бархатныя тѣни стыли въ углахъ. Улица посылала нестройные, замирающіе звуки, и ночь, прильнувшая къ окнамъ, смотрѣла, не отрываясь, на красные цвѣты обѣденнаго стола.
_______________
III.
Записки.
1.
Банкиръ.
Въ дѣтствѣ, не помню точно когда, я видѣлъ зеленые холмы въ голубомъ туманѣ, яркіе, нѣжные только что вымытые дождемъ. Ласточки кружились надъ ними и облака неслись вверхъ, дальше отъ потухавшаго солнца. Небо казалось такимъ близкимъ, — стоило взбѣжать на пригорокъ и упереться головой въ его таинственную синеву.
Взбѣжавъ, я грустно присѣлъ на корточки. Небесныя мельницы, выбрасывающія сладкіе пирожки, оказывались нѣсколько дальше. Равнина, застроенная кирпичными зданіями, красными и бѣлыми, тянулась къ огромному лѣсу, за которымъ пряталось вечернее небо. Я протягивалъ къ нему руки; мои гигантскіе, растопыренные пальцы закрывали весь горизонтъ, но стоило сжать кулакъ, чтобы убѣдиться въ огромности разстоянія. А сзади кричала нянька:
— Куда, пострѣлъ!?
Черезъ двадцать пять лѣтъ мнѣ стали доступны самыя тонкія наслажденія, все благоуханіе жизни, вся пестрота ея. Къ человѣчеству я относился милостиво, т.е. допускалъ его существованіе рядомъ со мной. Правда, были еще повелители жизни, богатые, какъ и я, но, равные въ силѣ, мы не вредили другъ другу. Я жилъ. Все, что я говорилъ, дѣлалъ, думалъ и чувствовалъ въ теченіе жизни, — было «я» и никто другой.
Я — русскій, съ душой мягкой, сосредоточенной, безсильной и тепловатой. Думалъ я мягко, сосредоточенно, безсильно и тепловато. Любилъ — мягко, сосредоточенно, безсильно и тепловато. Наслаждался — мягко, сосредоточенно, безсильно и тепловато. Грустилъ — мягко, сосредоточенно, безсильно и тепловато.
Въ молодости, отростивъ длинные волосы и совершая мечтательныя прогулки по аристократическимъ улицамъ, я съ уныло бьющимся сердцемъ разсматривалъ зеркальныя стекла особняковъ, завидуя и восторгаясь, мечтая и негодуя. Убожество людской фантазіи поражало меня. Неуклюжіе, казенной архитектуры дома, выкрашенные темными красками, чопорные и мрачные, были, казалось, приспособлены скорѣе для узниковъ, чѣмъ для милліонеровъ. За ихъ стѣнами жили механической, убитой преданіями жизнью, или неуклюжимъ, грубымъ существованіемъ разбогатѣвшихъ мѣщанъ. Кругъ привычекъ и вождѣленій, домашняго быта и внѣшняго время провожденія укладывался въ два-три готовыхъ шаблона, изъ которыхъ наиболѣе интереснымъ казался типъ самодура, трагическій силуэтъ капризника безъ фантазіи и страстной тоски.
Тѣмъ не менѣе я былъ всецѣло на сторонѣ людей силы и денегъ. Въ ихъ рукахъ крылись возможности недоступныя для меня, очарованіе свободы, покой удовлетворенныхъ желаній. Моя комната въ шестомъ этажѣ утратила неподвижность матеріи, и стѣны ея по вечерамъ разрушались, открывая божественные горизонты, окутанные табачнымъ дымомъ. Я воздвигалъ дворцы и цвѣтущіе острова, строилъ бѣлоснѣжныя яхты и любилъ призраковъ-женщинъ, волнующихъ и блестящихъ, съ неясными, но возвышенными и тонкими чувствами. Впечатлѣнія моей собственной жизни раздражали меня, какъ больничная обстановка — нервнаго человѣка. Природа и книги, встрѣчи и разговоры съ людьми оставляли во мнѣ блѣдные слѣды своего ненужнаго прикосновенія. Я хотѣлъ остраго пульса жизни, взрыва наслажденій подавляющей красоты. Я думалъ, что сильные удары откроютъ выходъ всей полнотѣ человѣка и на каждый ударъ впечатлѣнія я отвѣчу музыкой нервовъ, потрясенiемъ и экстазомъ.
Обстоятельства привели меня къ исключительному богатству, а воспоминанія говорятъ мнѣ, что я воспринялъ и пережилъ все — мягко, сосредоточенно, безсильно и тепловато. Я не могъ прыгнуть выше ушей. Я не могъ сказать «убирайтесь!» самому себѣ, пожать эту пухлую руку энергическимъ, страстнымъ пожатіемъ, и вздохнуть глубже своихъ собственныхъ легкихъ. Лѣтъ пять назадъ, пріѣвшись себѣ до тошноты, я сталъ одѣваться, какъ англичанинъ, брить бороду и усы и говорить по-англійски. Но флегматичная самоувѣренность и спокойное сознаніе своего достоинства остались въ Англіи. Я долго перебиралъ въ памяти содержаніе человѣка: экспансивность и мстительность, страстность и великодушіе, отвлеченность и жадность, возвышенность и непосредственность, остроту мысли и чувствъ, рѣшительность и поэзію упоенія. Но плакалъ отъ злобнаго безсилія. Нѣтъ человѣка. Онъ разбитъ вдребезги, и мы — осколки его. Я имѣю все, что хотѣлъ, и даже больше, но радоваться и страдать иначе — не могу.
Женщина, которую я люблю, любитъ не меня, а то, что могло бы быть на моемъ мѣстѣ — свою мечту. Я не говорилъ ей объ этомъ, не осыпалъ ее упреками. Но часто холодъ, полный глубокой грусти, раздѣлялъ насъ, когда она спрашивала:
— Можешь ли ты любить иначе? Какъ юноша, немножко дикой, немножко смѣшной любовью?... Бросить все для меня?.. Уничтожаться въ моемъ присутствіи?.. Трепетать отъ ласковыхъ словъ?..
И я отвѣчалъ ей:
— Я хотѣлъ бы любить такъ. Я хотѣлъ бы радоваться всему и любить все. Но я не люблю все и не радуюсь. Ты знаешь меня. У меня мягкая, не выносящая одиночества душа. И я тихо, грустно люблю тебя.
Она плотнѣе сжимала губы, глаза ея становились загадочными и меркли. А я ждалъ со страхомъ, что она встанетъ и уйдетъ отъ меня. Но смѣхъ покрывалъ все, ждущій, нервный смѣхъ женщины, играющей въ беззаботность. И я, довольный минутой, смѣялся въ отвѣтъ ей искреннимъ, облегченнымъ смѣхомъ.
Недавно она ушла. Одиночество угнетаетъ меня и серебритъ голову. Жизнь хохочетъ въ окно презрительно и надменно, какъ любовница, ласки которой не зажгли силы въ тѣлѣ ночного избранника. Творчество ея безгранично, и жалокъ я передъ нимъ съ роскошнымъ своимъ убожествомъ.
Я усталъ. Есть ли тамъ что-нибудь? Если — «да», — пусть будутъ зеленые холмы въ голубомъ туманѣ и вечерняя тишина.
2.
Бухгалтеръ.
Самообманы и иллюзіи отрицаю. Единственная задача моей жизни была — отыскать ровную, спокойную дорожку, по которой, безъ особенныхъ удовольствій, но и безъ особенныхъ огорченій, можно пройти до конца, т.е. до конца жизни. Я привыкъ выражаться точно, этому меня научила жизнь, такая простая и ясная.
Отъ этой ясности я бѣгу, сломя голову и, кажется, дѣлаю хорошо. Объяснюсь. Семнадцати лѣтъ я кончилъ городское училище и поступилъ на коронную службу. Такимъ образомъ, я сдѣлался чиновникомъ. Потомъ, въ одинъ прекрасный день, познакомился съ дѣвушкой, нынѣ уже моей умершей женой. Мнѣ было холодно жить и скучно, но я цѣлыхъ полгода старался выставить себя передъ ней чѣмъ-то въ родѣ возвышенной натуры, рисовался, говорилъ, что не признаю любовь и прочее. Она не понимала меня. Наконецъ, стосковавшись, я пришелъ однажды домой и почувствовалъ себя любящимъ до такой степени, что на другой день явился къ ней съ цвѣтами и сказалъ:
— Будьте моей женой! Я дуракъ... Я васъ мучилъ, а между тѣмъ, я люблю васъ!.. Къ новому году мнѣ обѣщали награду... Не отвергайте меня!..
Она засмѣялась и поплакала вмѣстѣ съ мной. Мы обвѣнчались. Родился ребенокъ и жить стало еще труднѣй. Я бился пять лѣтъ, залѣзъ въ долги и, наконецъ, бросилъ казенное мѣсто, поступивъ на заводъ бухгалтеромъ. Я сильно любилъ жену и не отказывалъ ей ни въ чемъ. Разъ она мнѣ сказала:
— Помнишь? — шесть лѣтъ назадъ, въ этотъ самый день ты сдѣлалъ мнѣ предложеніе!
— Помню, милая, — сказалъ я. На самомъ же дѣлѣ, за хлопотами и заботами давно забылъ, въ какой именно день это произошло. И прибавилъ:
— Какъ же я могу забыть, подумай-ка ты?..
Она поцѣловала меня и мы пообѣдали въ ресторанѣ, а потомъ отправились въ театръ. Возвращаться пришлось поздно, на извозчикѣ; ѣхалъ онъ страшно тихо; моросилъ дождь и дулъ холодный, пронзительный вѣтеръ.
Къ вечеру другого дня я слегъ, захворавъ тифомъ, и пролежалъ въ больницѣ три мѣсяца, а когда выписался, — на мое мѣсто былъ нанятъ другой. Мы продали и заложили все, что могли. Дѣти хворали, надо было лечить ихъ, а въ квартирѣ часто не было что поѣсть. Маленькая жена моя постарѣла за эти семь мѣсяцевъ голоднаго отчаянія, на нее больно было смотрѣть. Чѣмъ мы жили и какъ? Грошевыми займами, случайной перепиской, унизительными долгами въ мелочную лавку. А въ одинъ промозглый весенній вечеръ я ходилъ по бульвару, красный какъ кумачъ, отъ стыда, и выпрашивалъ подаяніе. Я принесъ домой 14 копѣекъ наличными, купивъ съѣстного, но женѣ промолчалъ, сославшись на доброту пріятеля.
Наконецъ грошовый, но постоянный заработокъ отчасти выручилъ насъ. Правда — это было уже не то, что раньше; наша чистенькая, теплая квартира съ роялью, цвѣтами и скромными бездѣлушками отошла въ область воспоминаній, но все же мы были кое-какъ сыты. Занятія мои состояли въ томъ, что я читалъ вслухъ полусумасшедшему старику романы старинныхъ авторовъ. Кліентъ мой плакалъ надъ добродѣтелью и грозно сжималъ кулаки по адресу злодѣевъ Я получалъ съ него тридцать рублей въ мѣсяцъ и жилъ тогда въ одномъ концѣ города, а старикъ въ другомъ.
Жена моя умерла. И умерла отъ какой-то странной болѣзни, дней въ шесть. Однажды пришла съ горячей головой, глаза блестятъ, слабая. Я уложилъ ее и напоилъ чаемъ съ ромомъ, но это не помогло. И послѣ, на другой день, она ходила еще, но все держалась за что-нибудь — стѣнку, стулъ.
— Ну, что? — говорю. — Тебѣ вѣдь нехорошо?.. Пойди къ доктору.
— Нѣтъ... Это пройдетъ, не волнуйся, пожалуйста.
Она перемогалась три дня, слегла, и докторъ, посѣтивъ насъ, прописалъ много лекарствъ. Я, какъ сейчасъ, вижу его задумчивые глаза. Онъ не опредѣлилъ болѣзни и ушелъ. Черезъ день женѣ стало хуже, но меня вызвали читать новый романъ. Уходя изъ дома, я постарался вложить въ мою улыбку всю душу. На улицѣ схватила тоска, хотѣлось вернуться, но я поборолъ себя и отправился къ старику.
Человѣкъ этотъ уже впадалъ въ дѣтство и всегда привѣтствовалъ мое появленіе хилыми рукоплесканіями. Ротъ его, подъ острымъ, сморщеннымъ носомъ, растягивался до ушей, кашляя беззубымъ смѣхомъ. За нимъ неотступно ходила племянница, высохшая дѣвушка съ ястребиными глазами и жидкой прической. Въ тотъ вечеръ я читалъ плохо и невнятно, потому что со страницъ книги смотрѣли глаза жены. Кто-то прикоснулся ко мнѣ, я всталъ.
— Тутъ къ вамъ пришли, — забормотала племянница. — На кухнѣ, васъ спрашиваютъ!
Я вышелъ и увидалъ жену швейцара нашего дома. Она еще мялась, потирая красныя, озябшія руки, но я уже не слушалъ ее. Все стало ясно, пусто, колѣни подгибались, хотѣлось сказать тихо самому себѣ:
— Да что же это такое?..
Я побѣжалъ на улицу безъ шапки, въ одномъ сюртукѣ, какъ былъ. Пустыя улицы скрещивались и расходились, полныя сумеречной бѣлизны и желтыхъ огней.
— Извозчикъ!.. — кричало мое пересохшее горло. — Извозчикъ!..
Ничего нельзя было разглядѣть. Снѣгъ залѣплялъ глаза, уши, сверлилъ шею. Я повернулъ въ другую сторону и побѣжалъ еще быстрѣе. Одинокіе пѣшеходы тонули въ сумеркахъ и въ воротникахъ шубъ.
— Извозчикъ!.. — хрипѣлъ я. — Дорогой, голубчикъ!. Извозчикъ!..
Снѣгъ крутился передо мной, полный лихачей, моторовъ, экстренныхъ поѣздовъ... Не помню, долго ли бѣжалъ я, наконецъ — нашелъ и ослабѣлъ отъ радости. Онъ сидѣлъ на козлахъ, скорчившись, и крѣпко спалъ. Лошадь понуро вздрагивала, спина ея и сани бѣлѣли, засыпанныя снѣгомъ.
— Извозчикъ!.. — сказалъ я, стараясь удержать голосъ, переходящій въ крикъ. — Эй, дядя!..
И дернулъ его за рукавъ. Онъ покачнулся, но не измѣнилъ позы.
— Извозчикъ!.. — плакалъ я. — Рубль тебѣ, поѣзжай хорошенько, извозчикъ!..
Онъ спалъ, я сталъ тормошить его, рванулъ за полу разъ, другой, и вотъ — медленно, какъ бы выбирая на снѣгу удобное мѣсто, онъ вывалился изъ саней и шумно хлопнулся внизъ лицомъ, грузный и мягкій. Лошадь мотнула головой и замерла.
Былъ онъ пьянъ, или мертвъ — не знаю, но я не испугался, не отскочилъ въ сторону, а заскулилъ какъ собака и выругался. Потомъ долго несъ свое тѣло, окостенѣвшее и разбитое, пока лошадиная морда не фыркнула мнѣ въ лицо паромъ ноздрей. Я сѣлъ и поѣхалъ.
Все окончилось безъ меня. Я засталъ тишину трупа, безцѣннаго трупа. Въ пьяномъ видѣ я сочинилъ стихи и теперь помню только одну строчку:
«Гробъ ея бѣлый...»
Какъ видите, жизнь моя очень проста и нѣтъ въ ней ничего такого, надъ чѣмъ можно задуматься. Я и самъ никогда не задумывался, зная, что Богъ и вселенная — рядъ неразрѣшимыхъ загадокъ. Я ничего не знаю. А на землѣ все ясно... все ясно, и поэтому нельзя жить. Изъ горошины, напримѣръ, апельсинъ не вырастетъ.
3.
Капитанъ.
Я жилъ всю свою жизнь, господа, надеждой на что-то большое, свѣтлое и хорошее. Но я состарился, и не было ничего, и не будетъ.
Такъ таки совсѣмъ не было. Я даже остался холостымъ. Скучно, холодно, нечѣмъ жить. Тоска убиваетъ меня. Какъ я живу? Доклады, рапорты, строевое ученье, маневры, карты — изо дня въ день совершается убійство человѣка. А вѣдь я, дѣйствительно, надѣялся, я ревниво хранилъ въ себѣ жажду счастья, какого-то особеннаго счастья. Казалось, что вотъ вотъ оно можетъ придти, надо только вѣрить. Придетъ, охватитъ своими благоухающими руками, засмѣется — и я стану другимъ. Но у меня красный носъ, маленькіе, острые глаза, и мнѣ совѣстно, какъ будто я виноватъ въ этомъ. Я скученъ, неразговорчивъ. Можетъ ли быть счастливъ человѣкъ незначительнаго вида и заурядныхъ способностей? Теперь мнѣ даже смѣшно.
Я не могу разсказать свою жизнь, но вотъ разсказъ, вырѣзанный мною изъ журнала. Кто-то разсказалъ мнѣ обо мнѣ, и залилъ краской стыда мои щеки. Какъ будто меня раздѣли. Мнѣ стыдно не за себя, а за того, кого люди знаютъ подъ именемъ капитана Б. Разсказъ называется «Приключеніе». Вотъ онъ:
«Сотни романовъ и повѣстей, прочитанныхъ фельдшеромъ Петровымъ, оставили въ немъ неизгладимый слѣдъ разнообразіемъ и случайностью житейскихъ комбинацій, приводящихъ къ такимъ заманчивымъ и поэтическимъ финаламъ, какъ свадьба, двойное самоубійство и бѣгство въ Америку. Онъ былъ твердо убѣжденъ въ томъ, что, если съ нимъ до сихъ поръ ничего подобнаго не случалось, то случится, и не далѣе Новаго года. Пока же, въ ожиданіи неизвѣстнаго, но заманчиваго будущаго, Петровъ ходилъ въ городскую больницу, пилъ, получалъ сорокарублевое жалованье и игралъ въ стуколку.
Надежды и планы, лелѣемые имъ про себя въ лекарственномъ воздухѣ пріемныхъ покоевъ, были весьма разнообразны и коренились въ свойствѣ человѣческой природы — забывать настоящее. Въ прошломъ фельдшера совсѣмъ не было случаевъ, оправдывавшихъ его романическія наклонности, но тѣмъ болѣе считалъ онъ себя роковой личностью, уготованной для неожиданнаго и пріятнаго взрыва скучной дѣйствительности.
И, какъ будто въ насмѣшку, обстоятельства жизни тщательно берегли его особу отъ всякихъ волненій. На памяти его не было далее крошечной, случайной интриги, неожиданной встрѣчи, поэтически сорваннаго удовольствія. Никогда не угрожали ему оглобли извозчика, а больные умирали на его дежурствахъ тихо, безъ воплей и бредовыхъ эксцессовъ.
На четвертомъ десятилѣтіи своей жизни Петровъ сталъ задумываться, хандрить, и въ ночь, когда случилось непоправимое, характеръ фельдшера имѣлъ уже своеобразности, сократившія его жизнь и тоску. Онъ только что вышелъ изъ пивной, грузный и охмѣлѣвшій. Ноги скользили по тротуару, еще мокрому отъ весенняго дождя, и черная мгла пеленала улицу.
Вдругъ, прямо противъ него, колыхаясь въ неровномъ свѣтѣ уличнаго фонаря, вынырнула женская тѣнь. Она, должно быть, перешла дорогу, потому что появилась изъ мрака внезапно и тихо, какъ привидѣніе. Петровъ суетливо посторонился, испуганный выраженіемъ ея гордаго, заплаканнаго лица, а она прошла мимо, шурша шелковымъ платьемъ и медленно утопая въ темнотѣ высокой, стройной фигурой.
Это не была проститутка, а между тѣмъ шла одна, ночью, въ глухой части города, странной, нервной походкой, какая бываетъ у сильно возбужденныхъ или испуганныхъ людей. Одно-два мгновенія Петровъ стоялъ неподвижно и потомъ мрачно двинулся вслѣдъ за женщиной, привлекаемый тайнымъ соображеніемъ о печальныхъ секретахъ и неожиданныхъ приключеніяхъ, могущихъ дать, наконецъ, его жизни сильное и желанное теченіе.
Женщина шла быстро, не оглядываясь. Часто ея трепетная, легкая тѣнь совершенно тонула въ темнотѣ и только скрипъ шаговъ указывалъ фельдшеру нужное ему направленіе. Онъ сталъ размышлять, не слѣдуетъ ли подойти къ ней, заговорить, но тутъ же испугался собственной мысли и рѣшилъ просто идти до конца. Въ крайнемъ случаѣ могли подвернуться пьяные, оскорбить незнакомку, и его присутствіе оказалось бы тогда какъ нельзя болѣе кстати. Онъ уже размечтался и мысленно повторялъ еще не сказанныя слова благодарности: — «Ахъ, я никогда не забуду этого». — Казалось, онъ слышалъ нѣжный ласкающій тембръ женскаго голоса и чувствовалъ въ своей неловкой рукѣ маленькую, нѣжную перчатку. Мысль, что онъ смѣшонъ — не приходила въ голову.
Волненіе разросталось, — сантиментальное, самолюбивое волненіе подвыпившаго, одинокаго человѣка. Напрягая зрѣніе, и ускоряя шаги, Петровъ двигался по пустынной улицѣ, обдумывая еще одно, полное благородства и достоинства соображеніе: проводить ее до подъѣзда того дома, куда она идетъ, и въ самый послѣдній моментъ остановить, сказавъ, приблизительно слѣдующее:
— Прошу извинить за мою смѣлость, сударыня.. Но вы были однѣ... глухое мѣсто... взволнованы... и я счелъ не лишнимъ...
Она, конечно, должна понять его, если не съ перваго, то съ пятаго слова. Что же дальше? Ахъ, да! Легкое изумленіе, внимательная улыбка. Затѣмъ онъ выслушаетъ ласковую благодарность и уйдетъ, такъ какъ больше ему ничего, рѣшительно ничего не нужно.
Улица выходила на песчаный берегъ, загроможденный плотами, барками, полузарытыми въ песокъ бревнами, лодками. Различныя догадки, безпокоившія фельдшера, сразу исчезли, и на душѣ его стало покойно и даже весело. Увѣренно и торопливо погружая въ хрусткій сыпучій песокъ свои полустоптанныя ботинки, онъ побѣжалъ за неизвѣстной женщиной, стараясь нагнать ее раньше, чѣмъ она подойдетъ къ длиннымъ, чернымъ плотамъ, забѣгавшимъ далеко, на самую середину рѣки, какъ узкія, змѣевидныя отмели.
Мгла, висѣвшая надъ водой, отсвѣчивала стальную, серебристую гладь теченія, и отъ этого всѣ предметы, возвышавшіеся надъ берегомъ, рисовались отчетливо, какъ вырѣзанные изъ черной бумаги. Женщина ступила на плотъ и теперь почти бѣжала. Петровъ задыхался отъ возбужденія, усталыя ноги тяжело и невѣрно попадали на скользкія, выскочившія изъ скрѣпъ бревна, темная, невидимая вода колыхалась подъ нимъ, качая потревоженный плотъ. Маленькія блѣдныя звѣзды горѣли въ далекомъ небѣ и печально посвистывали сонные кулики.
Онъ нагналъ ее у самой воды и схватилъ за плечо прежде, чѣмъ она почувствовала его присутствіе. Потомъ у него осталось воспоминаніе о рукахъ, поднесенныхъ къ волосамъ, очевидно, съ цѣлью снять шляпу. Незнакомка испугалась и стояла молча, вздрагивая, съ дѣтскимъ страхомъ въ расширенныхъ, большихъ глазахъ. Петровъ перевелъ духъ и заговорилъ, страшно торопясь и комкая фразы:
— Я... вы... Позвольте, я, кажется... Фельдшеръ Петровъ, сударыня... Сегодня такая ночь... Мнѣ попалось, или... можетъ-быть... Простите... Если я ошибся, то... Во всякомъ случаѣ... Если бы вы знали... Но… какъ хотите...
Волненіе не помѣшало ему замѣтить, что женщина молода и красива. Голосъ его осѣкся, и онъ умолкъ, испугавшись ошибки и страшнаго стыда за это передъ самимъ собой. Дама дышала глубоко и быстро, она поняла, и теперь, быть-можетъ, досадовала. Но возбужденіе, видимо, оставляло ее, спугнутое неподдѣльной тревогой добродушнаго, растеряннаго лица фельдшера. Она сказала только тихо и нерѣшительно:
— Уйдите...
Онъ понялъ, или, вѣрнѣе, по своему растолковалъ, что значило это коротенькое, слабое слово. Это значило, что онъ здѣсь лишній, что онъ не можетъ ничѣмъ помочь и суется не въ свое дѣло. Петровъ стоялъ не находя словъ, трепеща отъ жалости къ чужому горю, способному положить такой страшный и грубый конецъ. И тутъ, какъ почти всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, на помощь ему пришли слезы.
Она плакала судорожно и жалко, всхлипывая какъ ребенокъ и закрывая маленькими руками свое блѣдное, мокрое лицо. На шляпѣ ея вздрагивали и, казалось, плакали вмѣстѣ съ ней искусственные цвѣты. Но Петрову думалось, что она плачетъ не отъ сознаннаго ею въ этотъ моментъ ужаса смерти и жизни, а отъ того, что онъ, непрошенный и неловкій, грубо вошелъ въ ея жизнь и помѣшалъ умереть.
Тогда то, что есть въ каждомъ человѣкѣ и просыпается только въ рѣдкія и великія мгновенія контрастовъ, глубокихъ размышленій или трепетныхъ взрывовъ чувства, — поднялось со дна души невзрачнаго фельдшера и развязало его волю. Маленькій и сутулый, съ взлизами на вискахъ, онъ былъ великъ въ эти минуты, въ своихъ клѣтчатыхъ брюкахъ и люстриновомъ пиджакѣ. Торопливыя, полныя страстнаго убѣжденія слова, заимствованныя изъ романовъ, но прочувствованныя и лелѣемыя сердцемъ, сорвались съ его губъ. Началъ онъ отрывисто и нескладно, но постепенно захваченный постоянной, преслѣдующей его мыслью, Петровъ чувствовалъ, какъ исчезаетъ перегородка, естественно раздѣляющая двухъ незнакомыхъ, чужихъ людей. Она сидѣла, еще всхлипывая тихимъ, прислушивающимся къ его словамъ плачемъ; а онъ патетически взмахивалъ дешевой тросточкой, нервно разстегивая и застегивая свободной рукой верхнюю пуговицу пиджака. Въ голосѣ его были просьба и умиленіе, восторгъ передъ безконечностью жизни и собственное безсиліе.
— Сударыня, — говорилъ онъ, — кто бы вы ни были, конечно... Я понимаю ваше отчаяніе и все такое... Жизнь сложна, сударыня, и вотъ главное... На каждомъ шагу, быть-можетъ, насъ ожидаютъ тысячи радостей, а мы и не подозрѣваемъ этого... О! мы способны изъ-за минутнаго разочарованія, изъ-за неудачной любви разбить себѣ голову, но кто и чѣмъ вознаградитъ насъ, если, можетъ, быть, слѣдующій же часъ готовилъ намъ какъ разъ то, чего мы искали и не нашли? Насъ ждали, можетъ-быть, радостныя пѣсни, а мы сыграли похоронный маршъ!.. Жизнь... жизнь вѣдь, это — потокъ, который уноситъ все, сударыня, все, а главное — горе... Какое бы оно ни было, сударыня, увѣряю васъ! Зачѣмъ же, зачѣмъ губить себя?.. повѣрьте мнѣ, повѣрьте, увѣряю васъ... Это — истина, не можетъ быть иначе! Все проходитъ и все уходитъ... Да, вспомните Іова!.. Жизнь, вѣдь, — это — мать, сударыня!.. Она ранитъ, но она же и исцѣляетъ... Какія неожиданныя встрѣчи, какія комбинаціи могутъ быть!.. Это правда, повѣрьте мнѣ!.. все въ рукахъ человѣка, зачѣмъ же...
Надъ плотами сѣрѣла мгла, и ночь мчалась безшумнымъ, долгимъ полетомъ, скрывая мракомъ воду, небо, далекія черныя суда и двухъ маленькихъ, слабыхъ людей:
— Я устала, — сказала женщина. — Проводите меня. О, какъ я устала!..
Онъ шелъ за ней слѣдомъ, съ боку, и все повторялъ, теперь уже печально и монотонно:
— Сударыня, повѣрьте мнѣ!.. Подумайте только: вѣдь жизнь — это...
Она улыбалась и думала про себя свое, извѣстное только ей, изрѣдка роняя разсѣянныя, короткія фразы:
— Вы думаете?
Или:
— Да, да. Я такъ устала!
Или:
— Да, конечно...
У воротъ каменнаго двухэтажнаго дома они разстались... Въ руку его легла маленькая, упругая перчатка, и онъ услышалъ:
— До свиданія!.. Вы были очень добры!
Придя домой, фельдшеръ зажегъ лампу и просидѣлъ до утра, безконечное количество разъ повторяя слова, сказанныя тамъ, на плоту. Въ моментъ возбужденія такъ ярко, такъ прекрасно было то, во что онъ вѣрилъ: судьба; — неожиданная, капризная и ласковая. И такъ уныло глядѣла теперь изъ четырехъ угловъ его собственная одинокая скука.
Онъ подошелъ къ стѣнѣ. Маленькое зеркало безжалостно отразило сорокалѣтнія морщины, лысину, и замѣтное, мирно круглившееся брюшко...
Потомъ, уже спустя много времени, кто-то пустилъ слухъ, что онъ отравился, заразившись скверной болѣзнью и потерявъ надежду на выздоровленіе. Но это не вѣрно. Опроверженіемъ служитъ собственноручно имъ оставленная записка, гдѣ сказано ясно и просто «Въ смерти моей прошу никого не винить».
Братъ его, пріѣхавшій получить наслѣдство, нашелъ немного: ситцевый диванъ, этажерку съ книгами и наборъ врачебныхъ инструментовъ. Это было все, что подарила Петрову жизнь.
_______________
Я узналъ себя. Нѣтъ у меня никакихъ надеждъ, а умру я сейчасъ или послѣ — все равно.
4.
Журналистъ.
Послушайте-ка, эй вы, двуногое мясо! не желаете ли полпорціи правды?
Отвратительно говорить правду; гнусно, она мерзко пахнетъ. Впрочемъ, не волнуйтесь: можетъ быть, то, что для меня ужасъ, для васъ — благоуханіе. Съ какой стороны подойти къ вамъ? Какъ проткнуть ваши трупныя тѣлеса, чтобы вы, завизжавъ отъ боли, покраснѣли не привычнымъ для васъ мѣстомъ — лицомъ, а всѣмъ, что на васъ есть, включительно до часового брелка? Жалѣю, что, убивая себя, не могу того же продѣлать съ вами. Прочитавъ это, вы скажете: «Человѣкъ рисуется». Конечно. Да. Я пользуюсь своимъ уничтоженіемъ для полнаго возстановленія своей личности, желаю собрать себя на протяженіи всей своей жизни въ ея одномъ полномъ и тоскливомъ результатѣ-ругательствѣ. Отъ души и отъ чистаго сердца примите мое проклятіе.
Я — дитя вѣка, блѣдная человѣческая немочь, безцвѣтный грибъ затхлаго погреба. Лирически завывая скажу: «и я хотѣлъ многаго, о, братья! и я стремился помочь вамъ освободиться отъ свиного корыта. Понявъ вашу истинную природу, звонко хохоталъ въ продолженіе пяти лѣтъ. Срокъ довольно порядочный для того, чтобы, обдумавъ ваше и свое положеніе, сказать вамъ: «Покажите мнѣ честнаго человѣка!»
Не конфектно-напомаженную личность, а просто-таки честнаго человѣка, который отвѣчалъ бы за свои поступки. Покажите мнѣ чистое сердцемъ человѣческое животное, большого ребенка съ твердой волей и одной, прямой, какъ стрѣла, мыслью, безъ увертокъ и драпировокъ, безъ спрятанной про запасъ правды и механической лжи; покажите мнѣ это чудовище, и я буду жить, слѣпо, безъ разговоровъ увѣровавъ во всѣ сказки о будущемъ. Ваши лживые лицевые мускулы скрываютъ слишкомъ много такого, что нужно скрыть. Бойтесь правды! Ложью держится міръ, благословляйте ее!
Право на ненависть! Признайте за человѣкомъ право на ненависть! Возненавидьте ближняго своего и самого себя. Будьте противны себѣ, разбейте зеркала, пачкайте себя, унижайте; почувствуйте всю мерзость, весь идіотизмъ человѣческой жизни, смѣйтесь надъ лживыми страданіями; обрушьтесь всей скрытой злобой вашей на надоѣвшихъ друзей, родственниковъ и женщинъ; язвите, смѣйтесь, съ благодарностью принимайте брань. Ненавидя, люблю васъ всей силой злобы моей, потому что и я такой же и требую отъ себя больше, чѣмъ можете потребовать вы, Іуды! Властью умирающаго осуждаю васъ: идите своей дорогой.
«Все стройно, все разумно», — говорятъ нѣкоторые господа, а я говорю: идіотизмъ. Если вы мнѣ не вѣрите, — возьмите книгу «Хорошій тонъ»; тамъ вы узнаете, какъ легко заслужить презрѣніе окружающихъ, разрѣзавъ рыбу ножомъ. Или попробуйте разсказать вашей женѣ все, что думаете въ теченіе дня. Или прочтите въ газетѣ о бородатой скотинѣ, изнасиловавшей пятилѣтнюю дѣвочку.
Ухожу отъ васъ. Скверно съ вами, нехорошо, страшно. Неужели вамъ такъ пріятно жить и дѣлать другъ другу пакости? Слушайте-ка, мой совѣтъ вамъ: окочурьтесь. И перестаньте рожать дѣтей. Зачѣмъ дарить прекрасной землѣ некрасивыя страданія? Вы подумайте только, что рождается человѣкъ съ огромной и ненасытной жаждой всего, съ неумолимой потребностью ласки, съ болѣзненной чуткостью одиночества и требуетъ отъ васъ, давшихъ ему жизнь, — жизни. Онъ хочетъ видѣть васъ достойными любви и довѣрія, хочетъ царственно провести жизнь, какъ пишете вы въ изящныхъ, продуманно-лживыхъ книгахъ; хочетъ любви, возвышенныхъ наслажденій, свободы и безопасности.
А вы, на мертвенно-скучныхъ, запачканныхъ клопами постеляхъ, издѣвательствомъ надъ любовью и страстью творя новую жизнь, всей темной тучей косности ехидства встаете на дорогѣ вѣчно рождающагося человѣка и плюете ему въ глаза, смотрящіе мимо васъ, поверхъ вашихъ головъ, — въ отверзтое небо. И блѣднѣя отъ горя, человѣкъ медленно опускаетъ глаза. Окружайте его тѣснымъ кольцомъ, вяжите ему руки и ноги, бейте его, клевещите, оскорбляйте его въ самыхъ священныхъ помыслахъ, чтобы, лѣтъ черезъ десять, пришелъ онъ къ вамъ въ вашемъ образѣ и подобіи глумиться надъ жизнью. Перестаньте рожать, прошу васъ.
Подумайте, какъ будетъ хорошо, когда вы умрете. Останутся небо, горы, степи, лѣса, океаны, птицы, животныя и насѣкомыя. Вы избавите даже ихъ отъ кошмара своего существованія. И дроздъ, напримѣръ, будетъ въ состояніи свистнуть совершенно свободно, не опасаясь, что какой-нибудь дуракъ передразнитъ его пѣсню, простую, какъ свѣтъ.
Въ смерти моей прошу никого не винить.
Я написалъ много, но сжегъ. Всѣ люди достойны смерти и противно жить, господа.
5.
Женщина неизвѣстнаго званія.
Мнѣ хочется разсказать о себѣ такъ, чтобы этому всѣ повѣрили. Я состарилась; мнѣ всего 23 года, но иногда кажется, что прошли столѣтія съ тѣхъ поръ, какъ я родилась, и что всѣ войны, республики, эпохи и настроенія умершихъ людей лежатъ на моихъ плечахъ. Я какъ будто видѣла все и устала. Раньше у меня была твердая вѣра въ близкое наступленіе всеобщаго счастья. Я даже жила въ будущемъ, лучезарномъ и справедливомъ, гдѣ каждый свободенъ, и нѣтъ страданія. У меня были героическія наклонности, хотѣлось пожертвовать собой, провести всю жизнь въ тюрьмѣ и выйти оттуда съ сѣдыми волосами, когда жизнь измѣнится къ лучшему. Я любила пѣть, пѣніе зажигало меня. Или я представляла себѣ огромное море народа съ блѣдными отъ радости лицами, съ оружіемъ въ рукахъ, при свѣтѣ факеловъ, подъ звѣзднымъ небомъ.
Теперь у меня другое настроеніе, мучительное, какъ зубная боль. Откуда пришло оно?.. Я не знаю. Говорятъ, что чѣмъ больше лѣтъ человѣку, тѣмъ онъ болѣе становится равнодушнымъ. Это правда. Я сама знаю одного такого, онъ мнѣ приходится дальнимъ родственникомъ. Въ молодости это былъ крайній, теперь ему тридцать лѣтъ, и онъ говоритъ о стихійности, повинующейся однимъ законамъ природы. Онъ домовладѣлецъ. Прежде изъ меня наружу торчали во всѣ стороны маленькія, острыя иглы, но кто-то притупилъ ихъ. Я начинаю, напримѣръ, сомнѣваться въ способности людей скоро завоевать будущее. Многіе изъ нихъ кажутся мнѣ грязными и противными, я не могу любить всѣхъ, большинство притворяется, что хочетъ лучшаго.
Какъ-то, два года назадъ, мы шли цѣлой гурьбой изъ одного собранія и молчали. Удивительное было молчаніе! Это было ночью, весной. Какая-то торжественная служба совершалась во мнѣ. Земной шаръ казался круглымъ, дорогимъ человѣчкомъ и мнѣ страшно хотѣлось поцѣловать его. Я не могла удержаться, потому что иначе расплакалась бы отъ возбужденія, сошла съ тротуара и поцѣловала траву. Всѣ бросились ко мнѣ и долго смѣялись, и за то, что они смѣялись, а не пожали плечами, я сказала:
— Кто догонитъ меня?..
Теплый вѣтеръ билъ мнѣ въ лицо, я бѣжала такъ быстро, что всѣ отстали. Потомъ катались на лодкѣ, и мнѣ все время было смѣшно, казалось, стоитъ проколоть шпилькой любого — и изъ него сейчасъ потечетъ что-то, чѣмъ онъ переполненъ. Мнѣ пріятно вспоминать это. Потомъ я любила. Мы разошлись ужасно глупо: онъ хотѣлъ обвѣнчаться и показался мнѣ мѣщаниномъ. Теперь онъ за границей.
А что будетъ дальше? Къ тридцати годамъ станетъ ужасно скучно. Я и теперь старая, совсѣмъ старенькая, хотя у меня молодое лицо. Я такъ много жила и благодаря опыту научилась понимать людей. Я знаю ихъ хорошо, о! они всѣ измучены. Они всѣ хотятъ настоящаго, а здѣсь я безсильна. А будущее какъ-то перестало стоять на своемъ мѣстѣ, оно все передвигается впередъ.
Еще и теперь бываютъ у меня рѣдкія минуты, особенно утромъ, когда отдернешь занавѣску. Вдругъ кровь засмѣется и жадно смотришь на все зеленое, вымытое солнцемъ; и кажется, что если бы пришелъ кто-нибудь и сказалъ:
— Вы царевна!
Я сказала бы:
— Да.
Или сказалъ бы:
— Съ неба упалъ слонъ!
Я тотчасъ бы отвѣтила:
— Конечно.
Потомъ напьешься чаю и входишь въ обычную колею. Я уже не та. Я треснула. И я не хочу черезъ пять лѣтъ равнодушно читать газеты, ходить въ театръ, не забывая, что передо мной актеры, заботиться о прическѣ и грустить, только улыбаясь прошлому. Это ужасно, что живутъ другіе люди старше тебя, и ты отражаешься въ нихъ.
Тотъ хрустальный городъ, гдѣ жили бы въ будущемъ, обнесенъ высокими молчаливыми стѣнами. Мнѣ не переступить ихъ. Чего хочу я? Какой-то сжигающей, вѣчной радости, свѣта отъ розы-солнца, которой нѣтъ нигдѣ и не будетъ. Передъ ней меркнетъ все, и я стою въ темнотѣ, гордая своимъ желаніемъ. Я умру, зная, что не переставала хотѣть.
Загрузить текстъ произведенія въ форматѣ pdf: Загрузить безплатно
Наша книжная полка въ Интернетъ-магазинѣ ОЗОН,
въ Яндексъ-Маркетѣ, а также въ Мега-Маркетѣ (здѣсь и здѣсь).